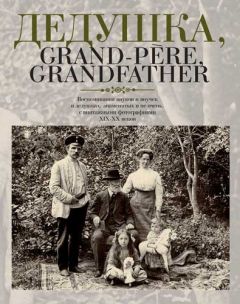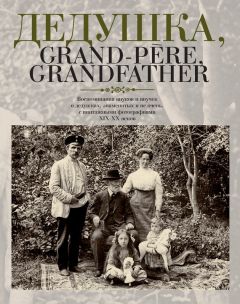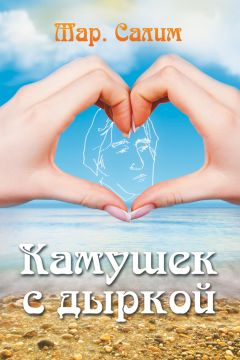Марсель Гафуров - Территория памяти
Эта беда по последствиям, по конечному итогу, пожалуй, даже страшней ядерных взрывов. После применения оружия массового поражения — допустим это гипотетически — кто-то, возможно, еще останется в живых. Утрата предусмотренного мудрой природой инстинкта отцовства и материнства вкупе с наркоманией и СПИДом начисто сведет род человеческий на нет.
Нынешним мальчишкам и девчонкам внушают, что в прошлом все было ужасно, что их дедушки и бабушки жили в стране, превращенной в концлагерь, а теперь — свобода. Я вспоминаю свое детство. Жилось нам тогда действительно трудно, мы были плохо одеты и не всегда сыты, шла война. Но учительница взволнованно читала нам в холодном классе: «Товарищ, верь: взойдет она, звезда пленительного счастья…» Для тех, кто не знает: это — стихи Александра Сергеевича Пушкина. «Будущее светло и прекрасно…» — уверял нас революционер-демократ Чернышевский. Мы верили в это будущее, нам и в дурном сне не могло присниться, что оно окажется таким, каким предстало в конце XX века.
Молодость моего поколения пришлась на строгое в нравственном отношении время. Мы не были сухарями в любви, нет, но признавали правомерность табу, оберегавших любовь от грязи, от скотства. Нас учили любить поэзию Пушкина и Блока, прозу Тургенева, Льва Толстого, Чехова. Эти авторы, к слову сказать, в коммунистической партии не состояли. Верхом откровения для нас были «Тихий Дон» Шолохова и романы Мопассана. Девушки, делясь по секрету впечатлениями от этих книг, делали большие глаза.
Мы выросли среди порядочных людей, чьи души очистило от скверны пламя Великой Отечественной войны, — войны, названной священной не из религиозных соображений, а потому, что народ защищал святое — свою Родину.
Кстати, о религии. Можно сколько угодно ругать коммунистов за то, что они боролись с религией, за разрушенные церкви, мечети, синагоги, но нелишне помнить при этом вот о чем: в массе своей коммунисты придерживались нравственных норм, выработанных всечеловеческим опытом и освященных той же религией. Идеалы коммунизма уходят корнями в раннее христианство. Принятый при Хрущеве «Моральный кодекс строителя коммунизма» перекликается с библейскими заповедями: не убий, не укради, не прелюбодействуй… Да, заповеди нарушались, но кем? Прежде всего, с позволения сказать, элитой, руководствовавшейся двойной моралью: всем нельзя, а нам можно. Правда, это не афишировалось, аморальностью не кичились, бесстыдство не выставлялось напоказ, как выставляется сейчас.
Подонки водились и в низах — где и когда они не водились? Большинство же народа пронесло через все невзгоды, через великие испытания и муки свою совестливость, дорожило душевной чистотой, соблюдало правила приличия в народном их понимании.
Наша газета невзначай нарушила правила приличия, вызвав с одной стороны хихиканье, с другой — начальственный гнев. Дашкина «потащили на Голгофу» — вопрос о «проколе» в молодежной газете был вынесен на заседание бюро обкома КПСС. Выступившие на заседании члены бюро в обычном своем стиле метали молнии, гремели громовые басы: строго наказать, гнать таких из партии, снять с должности. Одним словом, распять. Наконец громы отгремели, и З. Н. Нуриев, ставший первым секретарем после Игнатьева, сурово глянув на Дашкина, спросил:
— Ну, что нам с тобой делать, как сам думаешь?
— Я, Зия Нуриевич, думаю, что не надо меня наказывать, — очень серьезно ответил Дашкин.
Кто-то из членов бюро прыснул в кулак, не выдержали и остальные, засмеялись. Нуриев безнадежно махнул рукой:
— Ладно, иди работай, больше так не делай.
Зия Нуриевич относился к молодежи снисходительно, многое ей прощал. Мы его уважали, а потом и гордились им. Он завершил служебную карьеру в должности заместителя Председателя Совета Министров СССР. Знай наших!
Запись: «ЦК ВЛКСМ, тов. Иванов».
Ремеля Дашкина перевели редактором в партийно-правительственную газету «Кызыл тан», издаваемую на татарском языке. На его место выдвинули меня и послали на утверждение в Москву, в ЦК ВЛКСМ. Я, дитя деревни, воспринимал учреждение, именуемое Центральным Комитетом, как нечто заоблачное, приближенное к чертогам Всевышнего. В столь высокие сферы мне еще не доводилось залетать, поэтому я вошел в здание ЦК с трепетом в сердце. Мне надлежало явиться к инструктору товарищу Иванову (не шучу, фамилия подлинная, не из перечня «Иванов, Петров, Сидоров…»). Пройдя строгую охрану на входе, нашел нужную дверь, потянул ее за ручку и чуть не присел, ошарашенный хлынувшим навстречу забористым матом. Товарищ Иванов разговаривал по телефону.
Принял он меня как ни в чем не бывало, оказался в общем-то свойским парнем, ничего ангельского в нем не просматривалось. Поговорил со мной пошучивая, дал задание посидеть в библиотеке, полистать подшивку газеты «Комсомолец Узбекистана» и, на основании откликов на ее материалы, написать заключение о действенности выступлений газеты. Как я догадался, таким образом проверялись мои умственные способности и уровень грамотности. С заданием я, видимо, справился успешно. Иванов отвел меня на беседу к заведующему сектором, тот — к заведующему отделом, и, наконец, я очутился в кабинете секретаря ЦК Камшалова. Камшалов куда-то торопился, задал какой-то пустяковый вопрос, пожал мне руку и пожелал успехов в ответственной работе.
Увы, эти встречи, в особенности первая, с Ивановым, пошатнули авторитет ЦК в моих глазах. С тех пор я смотрю на высокие инстанции несколько скептически. Позже довелось пару раз побывать на Старой площади, в «Большом ЦК». Входил туда уже без трепета в сердце.
Впрочем, я ошибся. Обнаружились более ранние записи, свидетельствующие о том, что скепсис зародился еще до поездки в ЦК ВЛКСМ.
Запись: «Собака на осевой линии».
В августе 1964 года в Уфу приехал Н. С. Хрущев. Правительственный кортеж должен был проследовать с железнодорожного вокзала, направляясь в северную часть города, по улице Карла Маркса мимо нашего газетного издательства. По обеим сторонам улицы плотными шпалерами выстроился народ. Никто его к этому, по-моему, особо не принуждал, просто тех, кому хотелось увидеть главу партии и правительства, отпустили с работы. Я в это время зачем-то зашел в редакцию «Советской Башкирии» и устроился с ее сотрудниками на балконе, откуда была видна вся улица от поворота со стороны вокзала. Ждем, переговариваясь о том о сем, когда появится кортеж.
Вот народ заволновался, издали по шпалерам в нашу сторону как бы покатилась волна. Едут!.. Но что это? Вместо машин из-за поворота появилась собака. Дворняге, каким-то образом угодившей в живой коридор, некуда было деться. Если она брала чуть влево, слева раздавались веселые крики, смех, свист, улюлюканье. Возьмет вправо — то же самое. Бедняжке не оставалось ничего другого, кроме как бежать по осевой, равноудаленной от людей линии улицы.
Наконец появился и кортеж. Хрущев стоял в открытой машине, в шляпе, надвинутой на лоб, — моросил дождь. Лицо его показалось мне усталым, серым, плохо запомнилось. Зато собаку помню отчетливо.
Запись: «Вечером у Ирека».
Я сидел в кабинете друга моего Юры Поройкова, занимавшего тогда пост первого секретаря Уфимского горкома комсомола. Рабочий день уже закончился, мы засиделись, разговорившись на вольные темы. Речь шла, кажется, о Булате Окуджаве. Власти, особенно провинциальные, относились к творчеству барда настороженно, потому что его песни гуляли по стране в неподконтрольных им, властям, как бы нелегальных магнитофонных записях, возбуждая молодежь своей необычностью. Юра устроил в зале общества «Знание» коллективное прослушивание песен Окуджавы, чтобы снять с них налет нелегальности. Народу в зал набилось столько, что ненароком выдавили часть оконных стекол. Мы гадали, попадет Юре за это от вышестоящих товарищей или не попадет.
Неожиданно раздался телефонный звонок. Позвонил первый секретарь обкома комсомола Ирек Сулейманов. Отвечая ему, Юра сообщил, с кем он сидит, и, положив трубку, сказал:
— Ирек пригласил нас обоих к себе домой, поехали!
Приглашение заинтриговало меня. Зачем пригласил, что нас там ждет? С другой стороны, мне любопытно было взглянуть, как живет первый секретарь обкома. Всегда были и будут суды-пересуды о привилегиях начальства, а Ирек, хоть и комсомольский, все же большой начальник.
Оказалось, что квартира у него обыкновенная двухкомнатная, в каких жили тысячи рядовых семей. Никакой роскоши. С нашим приходом Ирек выставил на стол бутылку «Московской». Жена его, Мукарама Садыкова, тогда еще начинающая писательница, принесла с кухни закуски: хлеб, ломтики сыра, соленые огурчики… Ирек, загадочно поглядывая на нас, наполнил рюмки.
— Ребята, Хрущева сняли. Выпьем по этому случаю.
Мы слегка обалдели. Когда выпили, языки развязались, и пошло: Хрущев такой, Хрущев сякой…