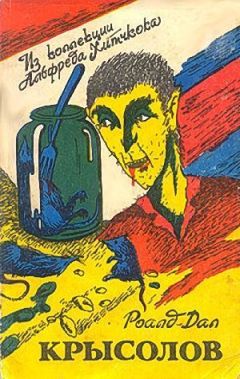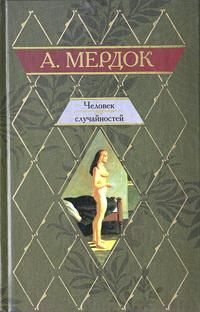Айрис Мердок - Монахини и солдаты
— Страдание — это такая мерзость. Смерть чиста. И не будет там никакого… lux perpetua…[8] как я ненавижу его. Только пох perpetua…[9] благодарение Богу! И только… Ereignis…[10]
— ?..
— То, чего страшится человек. Потому что есть… вероятно… некое событие… полусобытие… собственно говоря… и человек спрашивает себя… на что это будет похоже… когда настанет…
Графу не хотелось говорить об этом. Он закашлялся, чтобы прервать Гая, но не успел, и тот продолжал:
— Думаю, люди умирают, как животные. Наверное, мало кто умирает, как человек. Лишенный сил или в своего рода забытьи. Человека треплет лихорадка, точно буря корабль. Под конец… мало что от него остается. Все — суета. Каждый наш вздох сочтен.[11] Число своих я могу мысленно видеть… сейчас… все ясней.
Граф по-прежнему стоял у окна, провожая глазами огромные хлопья ярких снежинок, медленно и беспрерывно сыплющихся из тьмы. Ему хотелось остановить Гая, повернуть разговор к обыденным вещам, и в то же время он чувствовал: может быть, ему дорога эта речь Гая, его умение выражать мысль, это последнее слово слабеющего ума, обращенное лично к нему. Возможно, я нужен ему, чтобы произнести этот монолог, облегчающий его страдания. Но он слишком быстр, слишком необычен, я не могу уследить за его мыслью, как бывало. Я туп и не способен поддержать разговор или моего молчания достаточно? Захочет ли он увидеть меня завтра? Других он прогнал. Будет последняя встреча. Граф приходил на Ибери-стрит каждый вечер, он и без того нечасто бывал в обществе, а теперь и вовсе перестал где-то появляться. Неважно, скоро не будет никаких завтра. Рак прогрессировал, и врач сомневался, что Гай доживет до Рождества. Граф так далеко не заглядывал. В его собственной жизни надвигался критический момент, о чем он осмотрительно, благородно старался не думать.
Гай по-прежнему мотал головой по подушке. Он был чуть старше Графа — сорок три года, но казался сейчас стариком, от его львиного облика ничего не осталось. Прежнюю гриву обстригли, еще больше волос выпало. Выпуклый лоб, как голый купол. Крупная голова усохла, лицо заострилось, подчеркивая еврейские черты. Оно глядело на вас горящими глазами его предка-раввина. Гай был полукровкой, его предки — выкрестами, состоятельными людьми, англичанами. Граф пристально смотрел на еврейскую маску, в которую превратилось лицо Гая. Отец Графа был ярым антисемитом, и Граф (бывший поляком) постоянно искупал этот и многие другие его грехи.
Обычная вещь, и, стараясь не думать об этом, Граф спросил:
— Ты в состоянии читать книги? Может, принести чего-нибудь?
— Нет, «Одиссея» будет мне провожатым. Я всегда думал о себе как об Одиссее. Только теперь… я не вернусь… надеюсь, что успею дочитать. Хотя в конце она так жестока…. Они сегодня собираются прийти?
— Ты говоришь о?..
— Les cousins et les tantes.[12]
— Да, предполагаю, что придут.
— Они сторонятся меня с тех самых пор, как я заболел.
— Напротив, — сказал Граф, — если есть кто-нибудь, кого тебе хотелось бы увидеть, ручаюсь, что ему захотелось бы увидеться с тобой.
Он научился у Гая определенной, почти неприятной точности речи.
— Никто не понимает Пиндара.[13] Никто не знает, где похоронен Моцарт. Где доказательство, что Витгенштейн никогда не думал, что мы достигнем Луны? Если бы Ганнибал после битвы при Каннах[14] пошел на Рим, он бы взял его. А, да ладно. Poscimur.[15] Кажется, нынче вечером он не такой.
— О чем ты?
— О мире.
— Снег пошел.
— Хотел бы я увидеть…
— Снег?
— Нет.
— Скоро придет сиделка.
— Я наскучил тебе, Питер.
За сегодняшний вечер это были единственные конкретные слова, обращенные к нему, один из последних несомненных признаков посреди ужасающе отрешенного монолога, что связь между ними еще существует. Это было почти невыносимо, и Граф, охваченный жалостью и отчаянием, едва не бросился опровергать Гая. Но вместо этого ответил, как Гай требовал от него, как учил его:
— Нет. Это не скука. Просто я не могу разделить твоих мыслей, а может, и не хочу. А не позволить тебе продолжать разговор в таком духе — это было бы крайне невежливо.
Гай на это сморщился в гримасе, в которую теперь превратилась его улыбка. Он наконец лежал спокойно на высоких подушках. Их взгляды встретились и разошлись, заметив в глазах друг друга искру боли.
— Да… да… не надо было ей продавать кольцо…[16]
— Ей?..
— En fin de compte — ça revient au même…
— De s’enivrer solitairement ou de conduire les peoples,[17] — закончил Граф одну из любимых цитат Гая.
— После Аристотеля все разладилось, и теперь мы понимаем почему. Свобода умерла вместе с Цицероном. Где Джеральд?
— В Австралии, со своим большим телескопом. Ты хотел бы?..
— Я всегда верил, что мои мысли блуждают в бесконечном пространстве, но это было заблуждение. Джеральд рассуждает о космосе, но это невозможно, человек не может рассуждать обо всем на свете. То, что человек не знает вообще ничего… не гарантировано… игрой…
— Какой?..
— Смысл наших слов различен. Мы разного племени.
— Так было всегда, — сказал Граф.
— Нет… только теперь… О, насколько здесь все больное. Как бы мне хотелось…
— Что?..
— Увидеть…
— Увидеть?
— Увидеть… целиком… логическое пространство… верхнюю сторону… куба…[18]
В дверь, тихонько приоткрытую Гертрудой, женой Гая, Граф увидел сидевшую в коридоре ночную сиделку. В тот же момент та встала и с улыбкой быстро направилась к комнате больного, крепкая брюнетка с почти свекольными щеками. Она сменила сапоги на тапочки, но от нее еще пахло холодной свежестью улицы. Она вся дышала доброжелательностью, не направленной ни на кого конкретно; в прекрасных темных глазах плясал неопределенный огонек, она думала о других вещах, удовольствиях, планах. Она на ходу поправляла волосы с легким оттенком объяснимого довольства собой, которое было бы привлекательным, даже успокаивающим в ситуации не столь безнадежной. В этой ее отрешенности от окружающего страдания было, если можно так выразиться, нечто почти аллегорически печальное. Граф посторонился, пропуская ее, потом поднял руку, прощаясь с Гаем, и вышел. Дверь за ним закрылась. Гертруда, которая не вошла с сиделкой, уже вернулась в холл.
Нужно сказать, Граф не был настоящим графом. Его жизнь по сути своей была сплошной несуразицей, недоразумением. То же и жизнь его отца. О более дальних родственниках он не знал ничего, кроме того, что его дед со стороны отца, профессиональный военный, погиб в Первую мировую. Родители и старший брат, Юзеф, ребенок в то время, перебрались в Англию из Польши перед Второй мировой. Отец, Богдан Щепаньский, был марксистом. Мать — католичка. (Звали ее Мария.) Брак их не был удачным.
Отцовский марксизм был своеобразной польской закваски. Его сознание сформировалось в разрушенной послевоенной Польше, он был пьян от счастья, когда она получила независимость и доказала свое право на самостоятельное существование наилучшим из возможных способов: разгромив русскую армию под Варшавой в 1920-м. Политически Богдан был развит не по годам: последователь Дмовского,[19] но восхищался Пилсудским.[20] Его патриотизм был безогляден, при этом узколоб и окрашен антисемитизмом. Он рано ушел из дома, оставив мать и кучу сестер. Намеревался стать адвокатом и недолго учился в Варшавском университете, однако бросил и ввязался в политику. (Возможно, работал клерком.) Его ненависть к Розе Люксембург лишь немногим уступала ненависти к Бисмарку. (Он ненавидел огромное количество людей прошлого и настоящего.) Одно из ранних воспоминаний Графа было о матери, говорящей, что Роза Люксембург заслужила свою смерть, потому что хотела отдать Польшу России. (Отец, которого он едва помнил, конечно, считал своим первостепенным родительским долгом втолковать ему, что все русские — дьяволы.) Тем не менее, хотя он никогда не переставал ненавидеть Розу Люксембург (и умеренно радовался, когда она была в конце концов убита), неистребимая склонность к деспотизму привела его к марксизму. Он ощутил, что ему судьбой предначертано стать творцом чистого польского марксизма. У него был племянник, член малочисленной и находившейся на нелегальном положении Польской коммунистической партии, с которым он всегда яростно спорил. Хотя партия была не только пророссийской, но и кишела этими мерзкими евреями, она необычайно привлекала юного Богдана. Ему нравились в марксизме страсть, бескомпромиссность. Это был «короткий путь». Идеалистический, антиматериалистический, насильственный и не обещавший легкой победы. Польше, конечно, требовалась именно такая безоглядная одержимость. Однако, как он позже рассказывал сыну, его особый личный патриотизм не позволил ему стать коммунистом. Он остался одиноким яростным уникальным марксистом, единственным, который по-настоящему понимал, что марксизм значил для Польши.