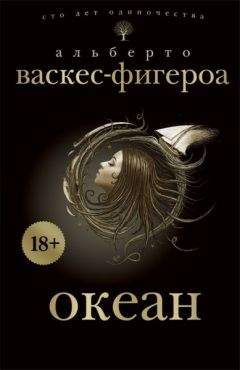Маргарита Хемлин - Крайний
— Зачем ты, Моисей, его заморочил? Он же теперь головой тронется.
— Не тронется. А от нас отстанет.
Мама только вздохнула.
Я вышмыгнул на улицу и увидел, что Айзик стоит неподалеку от нашего дома и смотрит. Прямо на меня. Вроде ждал, что выскочу именно я, а не кто из родителей.
— Ингеле, — кричит, — хлопец, подь сюда!
Я подошел.
Айзик и говорит на чистом украинском языке:
— Ты, якщо щось зрозумив, то не бовкны никому. Зарады своих батька й матэри. Воны в тэбэ зовсим дурни. Бувай! — и по плечу меня потрогал, как будто сам не знал, оттолкнуть или прижать к себе в знак теплого сочувствия.
С каким прошлым милуются родители — я тогда не обратил внимания. Не заострил по неопытности.
Я тогда понял главное: мы все дураки. Во-первых, я. Как неуспевающий. Во-вторых, мой отец, и моя мама. Почему они — не ясно. Но факт налицо. Айзик Мееровский припечатал, значит, получилась правда. Авторитет у него находился на невиданной высоте. Весь Остёр его превозносил. И с партийной, и с хозяйственной точки зрения.
В таком разрезе — разве я мог надеяться на то, что мои родители мне что-нибудь разъяснят в свете приближающейся войны? Конечно, нет. А я под их влиянием считал сам себя евреем? Конечно, нет. Язык, на котором мы говорили дома так же часто, как и на украинском, был знаком мне с молоком матери. Но и птицы ж говорят на каком-то языке, и коровы, и кони. Язык — это ничего. Это даже больше, чем ничего.
Правда, благодаря знанию идиша у меня по-немецкому в школе выходило «посредственно», а не «неуд», как по многим другим поводам. Но, честно скажу, только по устному, писать по-немецкому для меня было за семью замками.
И когда проклятым сентябрьским утром под окном раздалась немецкая речь, мой мозг спросонок или еще во сне решил, что это урок немецкого в школе и что Ида Борисовна говорит мужским голосом специально для строгости, потому что с нами, двоечниками, нельзя ж иначе, по-доброму. И теперь надо ответить. Хоть с-под одеяла, хоть как, а надо.
Как бы там ни было, именно Айзик Мееровский распорядился, чтоб мои родители поехали по району спасать скот перед отправкой неведомо куда. И они поехали исполнять свой долг. А я остался без никого в лесу на сто километров вокруг. И потом тоже.
Когда навстречу мне иногда выходили из непролазной гущи страшные коровы и быки, которые отбились от своих, я лишний раз вспоминал отца и мать. Я справедливо ждал, что, возможно, появятся и они, потому что не бросят же мои папа и мама даже отдельно взятую скотину.
Айзик Мееровский обо всем этом никогда не узнал, потому что добровольно ушел в первый день объявленной мобилизации и погиб на Днепре. Утонул Айзик Мееровский, героически раненый. Был тому наш остёрский свидетель.
И вода сошлась над Айзиком Мееровским одно к одному. И Бася его больше никогда не увидела. И песен с ним не спела. И Готэню, и Боже ж мой. И так и дальше.
Несмотря на сложившиеся условия и мой возраст, надо было жить. И поэтому я шел вперед.
Мне думалось, что еды, которую я затолкал глубоко в живот на хуторе, хватит надолго. Но я быстро и жестоко просчитался.
Голод подгонял меня куда-нибудь. Только люди могли дать мне силы в виде питания. К тому же был холод, хоть Галина Петровна не пожалела на меня добра и дала еще не старый ватник.
Для самоутешения я вспоминал свой родной дом. Например, я перебирал вещи — одну за другой. Книги — только по животноводству и ветеринарии. Их я тоже внутренне перебирал как имеющие крепкое отношение к моим родителям. Но это не утешало и не давало самовнушения сильной уверенности в будущем. Наоборот, я даже остановился в своем пути от мысли, что не забежал на минутку в родную хату. А ведь был в трех шагах.
Тогда я постановил — отринуть свое прошлое вместе со всем ненужным и вредным остальным.
Первый опыт с выдачей себя за другого ободрял меня. Отныне я решил стать Василем Зайченкой с легкой руки Дмитра Ивановича Винниченки.
После отчаянных блужданий я попал к людям. Оказалось, что уже ближе по направлению к Брянску. В чужих местах. Такой большой путь мне удалось проделать благодаря дрезине. Этот вид транспорта не являлся для меня новинкой. С моим Гришей Винниченкой мы не однажды катались на этом замечательном средстве передвижения.
Ветер бил мне в лицо, и я торопил рельсы.
Людьми оказались двое отставших в боях советских солдат. Точнее — младший лейтенант Валерий Субботин и рядовой Баграт Ахвердян.
Они как раз спали. Я сначала подумал, что это лежат убитые мертвые.
Лицом ко мне оказался черноватый солдат. Нос у него большой. Пилотка поперек головы — волосы курчавые и как ночь.
Как раз этот самый солдат первым почуял чужое присутствие и разомкнул свои глаза.
— Ты кто такой? — вскочил прямо сходу с винтовкой — и на меня.
Другой вскочил с пистолетом наготове — и тоже на меня.
Я ответил, как приготовился за много дней:
— Зайченко. Василь. С Остра.
Военные обступили меня с двух сторон.
Я шпарил как по-писаному:
— Пробираюсь куда глаза смотрят вперед. Голодный.
Вот и весь мой доклад перед лицом товарищей. Ну что ж. Меня не накормили, потому что нечем. Сами они не ели несколько дней или даже больше.
Старший по званию расспросил подробно, какими направлениями я шел, где в последний раз видел живых людей.
Я про хутор не открыл ничего. Только про дрезину и железный путь — махнул в неопределенном направлении.
В заключение попросил:
— Я один дальше не проживу. Хоть без еды, а берите с собой, будь ласка. Христом богом молю, — так Гриша всегда добавлял, когда что-то клянчил или у своего батька, или у кого-нибудь вообще по разным поводам.
И вот они вдвоем смотрят на меня и при мне ж совещаются.
Командир говорит:
— Мы идем по своим военным делам. Тебе с нами нельзя. Мы можем каждую секунду встрять в бой. У нас патронов мало, мы постоянно жизнью рискуем. Но с другой стороны — мы тебя бросить тоже права не имеем. Я тебе все словами говорю, чтобы ты понял. Тебе сколько лет?
— Тринадцать.
— А я думал, лет десять. — Младший лейтенант поправил полевую сумку и посмотрел на своего товарища, — ну что, раз такое дело, то значит, ты не такой уже и ребенок. Сам как думаешь? Ребенок или нет?
— Не.
Я постарался сказать твердо, но предательски заплакал. Упал на землю без сил и без мыслей на свой счет — что дальше будет, бросят меня или возьмут с собой, мне без разницы. Лишь бы лежать на мягкой мокрой земле, на сосновых иголках, и плакать, и плакать. Между прочим, в первый раз за долгий путь одиноких испытаний.
Военные стояли надо мной в молчании. Никто меня по голове не погладил. Ждали.
Я перестал и поднял лицо вверх. И увидел, что военные руками вытирают безмолвные слезы со своих лиц.
Я им сказал:
— Я Василь Зайченко с Остра. Возьмите меня с собой. Потом, если я вам надоем, убьете. У вас винтовки, у вас пули. Только не бросайте.
Военные взяли меня с собой. И мы пошли. Командир впереди, я за ним, солдат за мной.
Все в один голос молчали. Экономили силы, какие оставались. Я не спрашивал — куда идем.
Только раз заикнулся. И то не по поводу направления, а чтоб показать свое развитие:
— Если надо в разведку — вы меня пошлите. Я по-немецкому понимаю.
Они переглянулись, но оставили без внимания.
Шли долго. В основном — в темноте. Большие села обходили.
Ели, что находили. Ко всему, не было огня, так что и картошку, и буряк грызли сырыми, отчего потом происходили инциденты. Но ничего.
Черноватый солдат плохо говорил по-русски, а старший по званию — чисто. Акал. Меня не расспрашивали. Хоть я не раз порывался изложить приготовленную историю.
Обращались друг к другу: «товарищ красноармеец», «товарищ младший лейтенант». Ко мне: «мальчик». Но это в крайнем случае. А в не крайнем — молчание.
Неопытность со всех сторон. Взять хоть бы огонь. Как-то ж можно было исхитриться. Взрослые ж люди. Нет. К тому же некурящие. А курильщики б не выдержали. Хоть с неба, а огня достали б.
Наконец, поели по-людски. И картошку, и яйца, и даже хлеб с корочкой — толстой, коричневой. Это было в последний раз за войну, чтоб с корочкой, притом коричневой. Потом была корка только черная, и не корка, а сухая грязюка. Мешали муку с черт знает чем. Для размера.
Мы ели на хуторе. Оказалось, что сделали круг относительно моего маршрута. Пришли поблизости к Остру. Недалеко от Ляховичей.
Нас кормил старик Опанас.
Особо спросил меня, кто я такой. Я ответил, что Зайченко. Только про Остёр не заикнулся. Зайченко и Зайченко. Отстал от эвакуации.
Дед кивнул в сторону чернявого солдата:
— А той хто? Чорный та носатый? Тоже з эвакуации? — с иронией на свой манер.
Младший лейтенант резко оборвал: