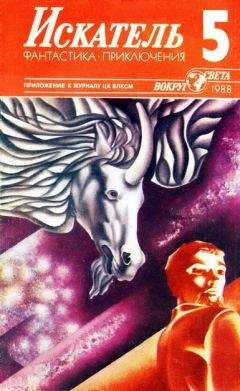Георгий Бурцев - Следствие… Том 1
— И наверняка в дурном настроении совершит очередную глупость.
— Ошибку, монсеньор, ведь он почти король, и Бог ему судья.
(Пройдёт чуть более двадцати лет, закончится война с победой для Карла Валуа, и по формальному обвинению в денежных злоупотреблениях он самым первым обезглавит своего двоюродного брата герцога Жана Алансонского)
Карл Валуа
Вернувшись во дворец, Карл вызвал к себе казначея Эдмона Рагье и встретил его вопросом:
— Дорогой Рагье, ответьте мне, как проходит сбор податей?
— В общем-то, не так уж плохо, как могло быть.
— А что возможны недовольства?
— Нет, сир, больше всего наши мытари боятся увидеть веселье и услышать смех в ответ на их требование.
— Не понял.
— Ваше величество, когда у крестьян, ремесленников и торговцев ещё что-то есть, они стонут, ревут, но отдают. Если же смеются, спеши унести ноги, ибо рискуешь потерять голову. Знаю по собственному опыту и опыту других.
— Вот оно что… И как скоро мы сможем услышать смех?
— Боюсь, что это может случиться даже завтра, особенно в пограничных провинциях.
— С пограничных не собирайте. Их верность нам особо дорога.
— Слушаюсь, сир!
— Ну, хорошо, спасибо. Передайте секретарю, чтобы позвали Роббера Ле Масона.
Рагье вышел. Карл шагнул к окну и глянул в окно. По двору расхаживал незнакомый священник.
— Ваше величество, рад видеть в полном здравии правителя и друга.
Карл резко обернулся с вопросом:
— Не посчитаете ли вы излишним созвать Генеральные Штаты? Мы так сейчас нуждаемся в деньгах.
— Ваше величество, созвать Генеральные Штаты не труднее, чем протереть там новые штаны, но толку-то… Деньги растекутся по сундукам де Шартра, де Гокура, Ла Тремуйля и так далее… Война не закончится, а казна опять до осени иссякнет.
— Что же вы предлагаете?
— Конкретно не готов ещё сказать, я полон необъяснимых ощущений, образов, предчувствий и ассоциаций, и мне думается, что мы уже в преддверии невероятного по форме, но очень мудрого по содержанию решения.
— Надеюсь, вспомните вы дверь сюда, когда вас осенит?
— Непременно, сир. Это моя святая обязанность.
— Ну, хорошо, благодарю вас. Передайте секретарю, чтобы послали за Маше.
Старик Ле Масон с поклоном скрылся. Карл выглянул опять в окно. Вновь увидел во дворе провинциального кюре. Услышал за спиной движение. Обернулся. В дверях стоял прелат.
— Что новенького есть у вас?
— Да, ничего достойного внимания.
— А что за кюре кружит под окнами донжона?
— Кюре, Жан Минэ, из Шампани. Что-то надумал себе и вообразил, что должен непременно доложить об этом лично вам.
— Так пусть доложит. Пропустите.
— Слушаюсь, ваше величество, — Маше покорно поклонился и исчез.
Карл вернулся к окну, распахнул его. Старик во дворе остановился и глянул на открывшееся окно. Потом повернулся в сторону крыльца. Поклонился. Направился к входу. Подул ветерок. Карл прикрыл окно и обернулся к двери. В кабинет вошёл кюре.
— Ну, что вы там, padre, придумали? Выкладывайте.
— Ваше величество, я не стану рассказывать вам вещие сны и не буду обманывать, что видел чудо. То, что пришло мне в голову — это плод холодных раздумий о судьбе отечества. Однако знаю наперёд, что это может показаться вам необычным настолько, что вы сочтёте меня сумасшедшим…
— Ближе к делу, padre.
— Ваше величество, королевство истощилось, силы его на исходе. Женщины рожают мужчин, но их явно недостаёт. Они продолжают гибнуть. Мне трудно назвать истинную причину наших неудач. Может быть, виновны военачальники; быть может, в этом вина ваших слуг; а может, виновны мы — слуги Господа. Но мне сдаётся, что я нашёл универсальное средство.
— Ну-ну, и что же это?
— Ваше величество, нужно под королевское знамя поставить девчонку. Простую, но хорошенькую. Чистую, непорочную деву, одетую в латы. Это должно изменить общее настроение как на нашей стороне, так и по ту сторону.
Едва скрывая нахлынувшую скуку, Карл сделал несколько нервных, нетерпеливых шагов по кабинету. Вдруг почувствовал боль в ушибленной ноге, остановился. Тотчас вспомнилась неудачная охота, падение с лошади, злая шутка и ядовитый смех кузена. Гнев подступил к горлу и вырвался стоном. Подавляя его, Карл тяжело вздохнул.
— Ну, что вы, что вы, padre, это не годится. Всё что угодно, только не это. Не хватало ещё, чтобы в хроники Франции попала какая-то девка!
— Ваше величество, что такое пять-шесть лет удачных военных действий по сравнению с многовековым прошлым и ещё большим будущим Франции? Ничто! Но это будут годы освобождения, на смену которым придут счастливые и безмятежные годы вашего правления.
— Нет, нет, святой отец, я не могу пойти на это. Уж слишком необычно то, что вы предлагаете. Слишком! Это вздорная мысль! Да вы, просто… Нас засмеют. Представляю: девка в армии! Нет, нет! Идите. Я обещаю забыть о нашем разговоре. Ступайте.
В тяжелом расстройстве старик покинул Шиньон.
Париж
Дверь под вывеской «Железный рак» не успевала закрываться. Из трактира, расположенного в полуподвале здания, густо несло подгоревшим мясом и вином. По каменным, сглаженным, затоптанным и скользким ступеням старик спустился вниз, прошёл в самый дальний и тёмный угол, уселся за стол спиной к залу. По летним, пыльным, полным нищими и бродягами, солдатами, погорельцами и разбойниками, он проделал большой путь. От Шиньона на лошади доехал до Буржа. Там продал телегу вместе с лошадью и отправился дальше пешком. В Жьен пришёл в разбитых башмаках. Однако денег на починку тратить не стал, отправился дальше в Осер. В дороге башмаки развалились окончательно, и с ними пришлось расстаться. В Осер пришёл босиком, но в нём ещё можно было угадать бывшего кюре; хотя лицо его заросло бородой, а коричневая повседневная сутана выгорела под палящим солнцем, полиняла под проливными дождями, истрепалась ветрами, измялась в полях и лесах, где её хозяин, короткими летними ночами, засыпал до зари чутким стариковским сном, то в обществе беженцев и погорельцев, то среди паломников или бродяг, а то и просто в немом, бессловесном одиночестве. В Труа, решившись поставить крест на духовном поприще, он, чтобы не обременять себя и не искушать лихую, лесную братию, продал все лишние вещи и в Париж вошёл с пустой котомкой, с горстью монет, оборванный, босой, загорелый, седой, похудевший и бородатый — что-то среднее между священником и бродягой. Усталость была великой. Он сидел долго сутулый и молчаливый, но какой-то торжественный от уверенности в необходимости и величии собственной миссии.
К нему подошла молодая хозяйка трактира.
— Будете есть?
— Да.
— Вина принести?
— Нет, не надо. А рыбу я съем с лепёшкой.
— Бульон и пару раков с зеленью, — подсказала хозяйка.
— Хорошо, давайте.
Хозяйка вернулась очень скоро, неся на медном блюде заказ. Получив деньги, она ушла.
Вскоре в трактир спустились трое английских солдат. Они заказали вино, мясо и принялись за пиршество. Из-за соседнего стола вытянули немолодую француженку; усадили за свой стол; принялись поить её вином и наперебой щупать. Захмелев, затянули песню.
Пресвятая Мама,
От войны огня,
От стыда и срама
Не спасти меня!
Брошу я сутаной
Попусту трясти,
Попрощаюсь с саном,
Господи, прости!
Дыблюсь я горою,
А в сознанье муть,
Лишь перед собою
Вижу зад и грудь.
Брошу я сутаной
Попусту трясти,
Попрощаюсь с саном.
Господи, прости!
Милая Ивойя
И малышка Сью,
Вам обеим, стоя,
Что-то сотворю.
Брошу я сутаной
Попусту трясти,
Попрощаюсь с саном,
Господи прости!
К столу, за которым сидел старик, подошли двое подмастерьев, Ирминон и Гийом, да старый мастер Филипп Трюмо. Ремесленники окликнули хозяйку, заказали мяса и вина. Филипп Трюмо, оглядев зал и француженку в обществе англичан, сказал:
— Вот так и Франция: её щупают, дурят, а она вечерами смеётся, но каждое утро плачет.
— Неужели этому не будет конца, мастер? — спросил Ирминон.
Трюмо тяжело вздохнул.
— Не знаю. Да и знает ли вообще кто-либо…
Жан Минэ, не поднимая глаз от стола, молча жевал рыбу. Подошла хозяйка, вытянула из-за пояса тряпку, смахнула ею крошки и кости на пол, сидящей под столом собаке, поставила на стол дымящееся мясо и вино.
— Вот вы, старый человек, — обратился мастер к Минэ, принимая протянутую Гийомом кружку с вином. — Вы знаете, кто может спасти нас от позора?
Старик поднял глаза, оторвался от еды, вытер руки о потрёпанное одеяние, не спеша, ответил:
— Я знаю не более вас, но люди говорят разное.