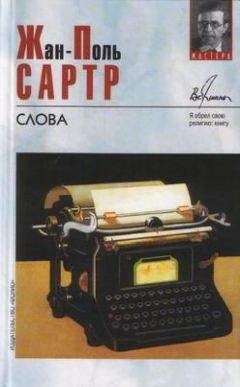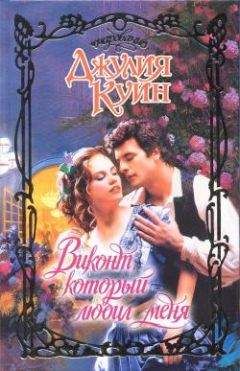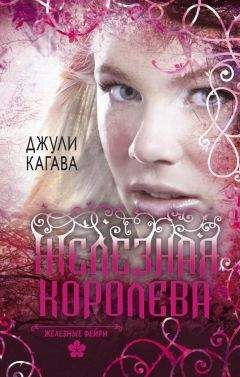Жан-Поль Сартр - II. Отсрочка
Был прекрасный золотистый вечер, воистину сентябрьский спелый плод. Стивен Хартли, перегнувшись через перила балкона, шептал: «Огромные медлительные водовороты вечерней толпы». Шляпы, шляпы, целое фетровое море, несколько непокрытых голов плыли меж волн, он подумал: «как чайки». Он подумал, что так и напишет: «как чайки», две светлые головы и одна седая, красивая рыжая шевелюра поверх остальных, с наметившейся плешинкой; Стивен подумал: «типичная французская толпа» и был тронут. Небольшое скопление героических и стареющих человечков. Он напишет: «французская толпа спокойно и достойно ожидает развития событий». В одном из номеров «Нью-Йорк Геральд» будет напечатано жирными буквами: «Я прислушивался к французской толпе». Маленькие люди, не слишком чистые на вид, большие женские шляпы, молчаливая, безмятежная, грязноватая толпа, позолоченная тихим парижским вечером между церковью Св. Магдалины и площадью Согласия под лучами заходящего солнца. Он напишет «лицо Франции», он напишет «вечное лицо Франции». Скольжение, шепот, которые можно назвать уважительными и восхищенными, нет «восхищенными» будет слишком; высокий рыжий француз, лысоватый, спокойный, как солнце на закате, несколько солнечных бликов на стеклах автомобилей, несколько оживленных голосов; мерцание голосов, подумал Стивен. И решил: «Моя статья готова».
— Стивен! — позвала у него за спиной Сильвия.
— Я работаю, — не оборачиваясь, сухо произнес Стивен.
— Но ты должен мне ответить, мой дорогой, — сказала Сильвия, — на «Лафайете» остался только первый класс.
— Возьми первый класс, возьми люкс, — ответил Стивен. — Возможно, «Лафайет» — последний пароход в Америку на много дней вперед.
Брюне шел медленно, вдыхая запах ароматизированного табака, затем он поднял голову, посмотрел на почерневшие, позолоченные буквы, прикрепленные к балкону; война началась: она была здесь, внутри этой светящейся зыбкости, начертанная, как очевидность, на стенах этого прекрасного хрупкого города; это был застывший взрыв, надвое раскалывавший улицу Руаяль; люди проходили сквозь войну, до времени не видя ее; Брюне ее видел. Она всегда была здесь, но люди этого пока не знали. Брюне подумал: «Небо обрушится нам на голову». И все начало обрушиваться, он увидел дома такими, какие они были наяву: замершее падение. Этот изысканный магазин заключал в себе тонны камней, и каждый камень, скрепленный с остальными, уже пятьдесят лет упрямо напирал на основу; несколькими килограммами больше, и падение свершится; колонны, дрожа, округлятся и покроются безобразными рваными трещинами; витрина разлетится вдребезги; массы камней обрушатся на подвал, расплющив тюки с товарами. У немцев есть бомбы в четыре тонны. У Брюне сжалось сердце: еще недавно на этих хорошо выровненных фасадах цвела человеческая улыбка, смешанная с золотистой вечерней пылью. Она угасла: сотни тонн камней; люди, бродящие среди застывших руин. Солдаты среди развалин, сам он, возможно, убит. Он увидел черноватые полосы на наштукатуренных щеках Зезетгы. Пыльные стены, поверхности стен с большими зияющими дырами в квадратах голубой или желтой бумаги, в пятнах проказы; красный каменный пол среди обломков, плитки, проросшие сорняками. Затем дощатые бараки военного лагеря. Впоследствии построят большие однообразные казармы, как на внешних бульварах. Сердце Брюне сжалось: «Я люблю Париж», — с волнением подумал он. Очевидность вдруг исчезла, и город вокруг него преобразился. Брюне остановился; он почувствовал подслащенность трусливой доброты и подумал: «Если б не было войны! Если б можно было избежать войны!» И жадно оглядел большие подъезды, сверкающую витрину «Дрисколла», голубые обои пивной Вебера. Через какое-то время ему стало стыдно, он зашагал снова, он подумал: «Я слишком люблю Париж». Как Пильняк в Москве, слишком любивший старые церкви. Партия права, что не доверяет интеллектуалам. Смерть вписана в человека, а разрушение — в предметы; придут другие люди, которые восстановят Париж, восстановят мир. Я ей скажу: «Значит, вы хотите мира любой ценой?» Я буду говорить с ней мягко, пристально глядя ей в глаза, я скажу ей: «Пусть женщины оставят нас в покое. Сейчас не время приставать к мужчинам со своими глупостями». — Я хотела бы быть мужчиной, — сказала Одетта.
Матье приподнялся на локте. Теперь он был бронзовый от загара. Улыбаясь, он спросил:
— Чтобы играть в солдатики? Одетта покраснела.
— Нет, нет! — живо возразила она. — Но мне кажется, что глупо быть сейчас женщиной.
— Да, это не слишком-то удобно, — согласился он.
Она опять, в который раз, была похожа на попугайчика; слова, которые она употребляла, всегда оборачивались против нее. Однако ей казалось, что Матье не смог бы ее порицать, если б она умела выразиться правильно; надо было бы сказать ему, что мужчины всегда ставили ее в неловкое положение, когда в ее присутствии говорили о войне. Они выглядели неестественными, они выказывали слишком много уверенности, как будто хотели убедить ее, что это мужское дело, и все-таки у них был вид, будто они чего-то от нее ждали: нечто вроде третейского суда, потому что она женщина и не уйдет на войну, а останется парить над схваткой. А что она могла им сказать? Оставайтесь? Отправляйтесь? Она не могла решать за них именно потому, что она была женщиной. Или нужно им сказать: «Делайте, что хотите». А если они ничего не хотят? Она уходила в тень, притворялась, будто не слышит их, она подавала им кофе или ликеры, окруженная раскатами их решительных голосов. Она вздохнула, набрала в руку песок и стала ссыпать его, теплый и белый, на свою загорелую ногу. Пляж был пустынным, море говорливым и мерцающим. На деревянном понтоне «Провансаля» три молодые женщины в пляжных костюмах пили чай. Одетта закрыла глаза. Она лежала на песке в серёдке надвременного, надвозрастного зноя: это был зной ее детства, когда она закрывала глаза, лежа на этом же песке, и представляла себя саламандрой, окруженной огромным красно-голубым пламенем. Тот же зной, та же влажная ласка купальника; кажется, что чувствуешь, как он дымится на солнце, тот же жар песка на затылке, дальние годы, она сливалась с небом, морем и песком, она больше не отличала настоящее от прошлого. Она выпрямилась, широко открыв глаза: сегодня ее окружала подлинная реальность; была эта тревога под ложечкой, был обнаженный и загорелый Матье, сидящий по-турецки на белом халате. Он молчал. Одетте тоже хотелось бы молчать. Но когда она не понуждала его непосредственно обращаться к ней, она его теряла: он предупредительно давал себе время произнести маленькую речь четким, хрипловатым голосом, а потом уходил, оставив в залог свое вежливое холеное тело. Если бы можно было предположить, что он хотя бы погружается в приятные мысли: но он смотрел прямо перед собой с видом, от которого сжималось сердце, в то время как его большие руки машинально лепили из песка пирожки. Пирожок тут же разваливался, руки без устали его восстанавливали; Матье никогда не смотрел на свои руки; в конце концов это раздражало.
— Пирожки не делают из сухого песка, — проговорила Одетта. — Это знают даже малыши.
Матье засмеялся.
— О чем вы думаете? — спросила Одетта.
— Нужно написать Ивиш, — сказал он. — Это меня тяготит.
— Не сказала бы, что это вас тяготит, — промолвила Одетта, усмехнувшись. — Вы ей послали уже целые тома.
— Да. Но какие-то идиоты нагнали на нее страху. Она стала читать газеты, хотя ничего в них не понимает: она хочет, чтобы я ей все объяснил. Это будет не слишком сложно: она путает чехов с албанцами и думает, что Прага находится на берегу моря.
— Это очень по-русски, — сухо заметила Одетта. Матье, нахмурившись, не ответил, и Одетта почувствовала досаду. Он с усмешкой сказал:
— Все усложняется тем, что она меня яростно возненавидела.
— Почему?
— Потому что я француз. Она спокойно жила среди французов, и вдруг они захотели сражаться. Она считает это возмутительным.
— Очень мило! — вскинулась Одетта. Матье принял добродушный вид:
— Но поставьте себя на ее место, — мягко сказал он. — Она злится на нас, потому что мы готовимся быть убитыми или ранеными! Она считает, что раненым недостает такта, потому что они вынуждают других думать об их теле. Она называет это физиологичным. А физиологию и у себя, и у других она ненавидит.
— Экая милашка, — усмехнулась Одетта.
— И все это совершенно искренне, — сказал Матье. — Она целыми днями не ест, потому что процесс еды вызывает у нее омерзение. Когда ночью ей хочется спать, она пьет кофе, чтобы взбодриться.
Одетта не ответила; она подумала: «Хорошая порка — вот что ей нужно». Матье ворошил руками песок с поэтичным и глуповатым видом. «Она не ест на людях, но я уверена, что она прячет в своей комнате огромные банки с вареньем. Мужчины — круглые дураки». Матье снова принялся лепить пирожки; он опять отбыл бог знает куда и насколько. «А я ем мясо с кровью и сплю, когда хочу», — с горечью подумала Одетта. На понтоне «Провансаля» музыканты наигрывали «Португальскую серенаду». Их было трое. Итальянцы. Скрипач был неплох; играя, он закрывал глаза. Одетта почувствовала себя растроганной; это всегда так волнует, когда слушаешь музыку на свежем воздухе, таком разреженном, таком пустом. Особенно сейчас: тонны зноя и войны давили на море, на песок, и еще этот комариный писк, вздымавшийся прямо к небу. Она повернулась к Матье и хотела ему сказать: «Мне очень нравится эта музыка», но промолчала: возможно, Ивиш ненавидит «Португальскую серенаду». Руки Матье замерли, пирожок рассыпался.