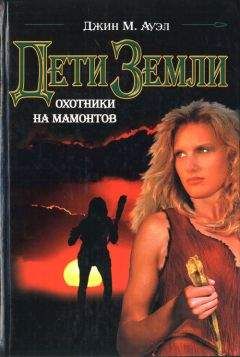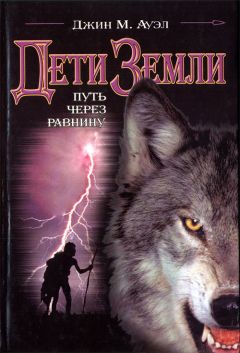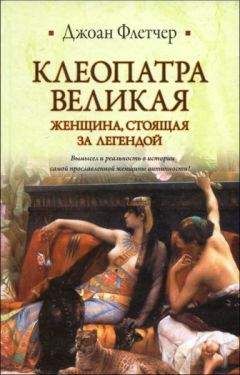По естественным причинам. Врачебный роман - Люкке Нина
Раньше я периодически просила Акселя относиться к домашним обязанностям более ответственно, и каждый раз в ответ на мою просьбу он вскакивал и доставал пылесос. Я шла за ним по пятам, выдергивала шнур из розетки и говорила:
– Я не просила тебя пылесосить. Я имела в виду вовсе не это. Я лишь хочу, чтобы ты следил за домом и видел, когда нужно пропылесосить. Ты вполне можешь попросить меня помыть ванну или пропылесосить, но я хочу, чтобы ты обращал внимание на состояние дома и замечал все эти вещи.
Аксель стоял с пылесосом, кивал и говорил, что, да, он обещает впредь так и делать, и всякий раз я надеялась, что он меня понял. Мы ведь говорили на одном языке, он стоял напротив меня, смотрел мне в глаза, утвердительно кивал и говорил, что меня понял, после чего продолжал пылесосить. Потом он больше ничего не делал вплоть до тех пор, пока я снова не просила его относиться к домашним обязанностям более ответственно, после чего он снова начинал пылесосить, разбирать посудомойку или что-то в этом роде. Вскоре я поняла: ничего не поделаешь. Если я хотела жить с Акселем, это возможно только при этом условии. Ничего не изменится. И я попыталась смириться. Я силилась смотреть на Акселя как на некое экзотическое существо, коммуникация с которым не представляется возможной. Если мне это удавалось, становилось легче. Но после того как девочки разъехались, я то и дело представляла себе, каково было бы жить одной, заботиться о себе одной, убирать после себя одной.
С другой стороны, старость не за горами. Гораздо лучше быть вдвоем, чем одному. Да ладно, думала я. Неужели, когда тебе восемьдесят, правда лучше убирать за двумя людьми, чем за одним. Стирать за двоих. Думать за двоих. Планировать отпуска, заказывать билеты, отвечать на извечные вопросы: когда поедем туда, когда вернемся домой, что на ужин, когда приедут девочки, когда они уедут, к которому часу придут гости, когда встретимся с этими и с теми, во сколько обратный рейс, сколько времени в запасе, как скоро приедем.
Сидя в своем кабинете, я вспоминаю жизнь в Гренде и думаю о том, что мое желание исполнено с лихвой: сейчас мне убирать действительно больше не за кем, кроме как за собой. И вспоминаю о деревянных ложках.
На одном рынке на Лансароте я купила пару деревянных ложек для салата. Они были сделаны из особого сорта черного дерева, и их нельзя было мыть в посудомоечной машине. Они были очень гладкими и приятными на ощупь. Я специально показала их Акселю, сказав: их нельзя мыть в посудомойке – их нужно мыть вручную. Я сказала ему об этом, понимая, что периодически Аксель загружал и разгружал посудомойку по собственной инициативе. Он ответил, что все понял, – и положил деревянные ложки в посудомойку. Раз за разом он клал их в посудомойку, и раз за разом я их доставала оттуда. На двадцать первый раз я сдалась. Когда я осознала, что, сколько бы раз он на полном серьезе ни говорил, что больше этого не повторится, он все равно будет класть их в посудомойку, и в итоге они станут серыми и блеклыми.
Казалось бы, какой гротеск. Какая микроскопическая банальность, и все же. Если бы он хоть раз запротестовал. Если бы хоть раз он сказал: знаешь что, я буду класть эти чертовы ложки в посудомойку, потому что считаю, что абсолютно все должно мыться в посудомойке, включая пластиковые контейнеры с силиконовыми краями, которые от мыться в посудомойке трескаются. Разве не за этим люди покупают посудомоечную машину – чтобы ничего не мыть вручную? Неужели ты думаешь, что какие-то растрескавшиеся деревянные ложки или силиконовые контейнеры стоят наших сил и времени, сэкономленных благодаря посудомойке? Он мог бы преспокойно сказать это, и мне ничего бы не оставалось, кроме как ответить: да ты ведь прав! Но вместо всего этого он серьезно кивал, мол, извини, этого больше не повторится, а потом снова клал ложки в посудомойку. Я по-прежнему не могу этого понять. Эти несчастные деревянные ложки стали для меня своего рода символом, ведь суть обычно проявляется в самых неприметных деталях. Всякий раз, чтобы оправдать наши с Бьёрном отношения, я вспоминала о ложках. Так же как думала, глядя на Геморройщика сегодня с утра, и об Акселе: если он хотел плевать на красивые, дорогие мне деревянные ложки, на что еще ему было плевать все эти годы?
Взять, например, рождественскую елку. Каждый год происходило одно и то же. Когда до Рождества оставалась всего неделя, я интересовалась у Акселя, когда ему было бы удобно купить елку, поскольку он всегда говорил, что непременно ее купит, а потом начинал медлить, мол, не знаю, скоро поеду и так далее, но в итоге никуда не ехал; спустя пару дней я снова спрашивала, когда он выделит время, чтобы съездить за елкой, на что он спрашивал меня, действительно ли нам так нужна елка, ведь девочки уже выросли. Эта дискуссия неизменно происходила перед каждым Рождеством, разве что, когда девочки были маленькими, он применял экологическую аргументацию: не слишком разумно рубить елку лишь затем, чтобы поставить ее у себя в гостиной, а через пару недель выкинуть. Я же, как обычно, отвечала ему: да, я считаю, что елка нам нужна, девочки, может, и выросли, только вот в прошлом году младшая плакала из-за того, что мы забыли посмотреть по телевизору «Три орешка для Золушки» [27], так что, похоже, в Рождестве есть нечто символическое, нечто большее, чем простая сумма составляющих его элементов, и, похоже, именно этот праздник год от года проверяет наши нервы на прочность.
Если у нас с Акселем в этой предпраздничной игре были свои заготовленные реплики, то для родителей Акселя на Рождество приходился настоящий высокий сезон. Либо подарки были не те, либо их было слишком мало или слишком много, либо они оказывались слишком дорогими, либо мы не так воспитывали детей, да еще дарили им, опять же, слишком дорогие подарки. Когда девочки доставали из упаковок новые мобильные телефоны, родители Акселя начинали сладострастно стонать, а потом не менее сладострастно жаловаться на то, что Рождество еще не наступило, а потом – на всеобщую одержимость деньгами и неискоренимый материализм – они достигали экстаза, изливая все накопившееся с октября.
Аксель унаследовал от родителей отношение к Рождеству и, хотя он никогда ни на что не жаловался, изо всех сил сопротивлялся любым элементам празднования: от елки он отбивался экологической аргументацией, от подарков – критикой консьюмеризма, от рождественских блюд – неоправданными ценами на продукты, подумать только, тридцать крон за килограмм свиных ребрышек, это ни в какие ворота не лезет, а как скотоводство влияет на климат. Он противился даже предпраздничной уборке: с какой стати к Рождеству должно быть как-то особенно чисто, к чему вся эта суета, не лучше ли отложить уборку до января.
В этом году была наша с Акселем очередь принимать родителей у себя. Не успели они переступить через порог, как по их возмущенным лицам мы поняли, что опять что-то пошло не так: либо таксист поехал не туда, либо в метро кто-то повел себя невежливо, возможно, группа подростков преградила им путь, когда они сходили с поезда.
Абсолютно трезвая, без своих дежурных четырехсот граммов шабли, я смотрела на их готовые лопнуть от негодования лица, слушала их аханье, оханье и нытье, начавшееся буквально на пороге – они даже не успели снять пальто, – на их перекосившиеся рты, жалующиеся в один голос, – и мне казалось, что я тону. Под предлогом, что нужно проверить духовку, я ушла на кухню и, остановившись у плиты, подумала, не выпить ли мне полный стакан аквавита [28], бутылка которого стояла в холодильнике.
На второй день Рождества, в шесть утра, я отправила Бьёрну сообщение:
не спится
Без заглавной буквы и знаков препинания.
Через две секунды пришел ответ:
ДАААА
На третий день рождественских каникул я села за руль и под благовидным предлогом визита к матери в дом престарелых отправилась в отель во Фредрикстаде. На все про все я потратила три часа: час туда, час в отеле, час обратно. За те три часа, что меня не было, дома ничего не изменилось: все трое – Аксель, Ида и Силье – лежали в прежних позах на диване перед телевизором, жуя чипсы и сладости.