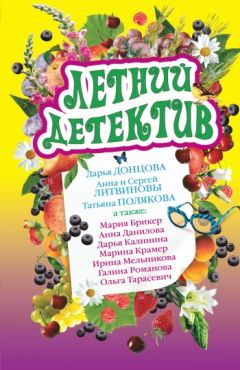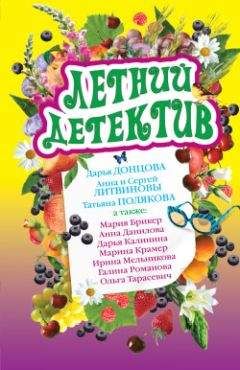Летний свет, а затем наступает ночь - Стефанссон Йон Кальман
Третий визит случился в мае, к вечеру; прохладный моросящий дождь, одно чертово болото, никакой возможности держать овец с ягнятами в загоне, не говоря уже о тех, которые вот-вот должны окотиться. Бенедикт с трудом поверил, когда за дверью залаял пес, а вскоре она открылась и вошла Турид, высокая, в непромокаемой куртке и трекинговых ботинках — в такую погоду не до кожаных сапог. Сначала Бенедикт был довольно хмурым, однако он ждал ее визита, хотя и не хотел в этом признаться ни себе, ни псу, представлял, как они встретятся под открытым небом: среди кочек разговаривать с незнакомым человеком легче, чем в четырех стенах, если что-то пойдет не так, всегда можно опереться на заборный столб. И вот она приехала, дождь барабанил по гофрированному железу, пес составлял ей компанию, пока Бенедикт был занят, на скорости, в спешке хватался за все, что только мог, отчасти чтобы перебороть недовольство, но также потому, что вообще не понимал своего отношения к этой женщине, которая разговаривала с псом, давала овцам понюхать свои пальцы и постоянно улыбалась. Разумеется, он думал о ней, размышлял о том, что стоит за ее визитами: неужели он ей нравится? Это казалось ему невозможным: земли у него не очень много, в протекающей по ней реке едва ли можно насчитать больше трех рыб за день; он несколько раз долго и внимательно рассматривал себя в зеркало, иногда обнаженным: длинный, тощий, выступающие ключицы, слишком большой кадык на тонкой шее часто словно жил своей жизнью — маленький грызун или что-то в этом роде. Тонкие губы, улыбка такая, словно он ощерился, и еще нос, боже, какая несправедливость иметь такой нос! Он хватался за нос, когда Турид не видела, тот был почти с ладонь, хотя руки у Бенедикта вовсе не маленькие. Вряд ли Турид привлекала его внешность, конечно, она поцеловала его на новогоднем балу, но это ничего не значит, они оба были пьяны, и говорила она о его глазах, да и то потому, что они показались ей печальными. Едва ли ее привлек его характер: Лоа нередко жаловалась на его молчаливость, Бенедикт целый день мог не заглядывать в дом, а потом наступал вечер, она готовила вкусный ужин и хотела поговорить, но из него слова не вытянешь, он склонялся к тишине, положив ее под голову как подушку. Я мужлан, думал Бенедикт, а Турид не из тех, кому нравятся мужланы, — она приходит из жалости, не из-за чего более. Бенедикта охватывает гнев: жалость вызывает отвращение, он скорее позволил бы себя ненавидеть, это честнее. Он хватается за лом, но ломом ему нечего делать, Турид останавливается; она явно шла к нему, у нее красивая походка, ему неприятно это признавать, шла прямо и без усилий; у тебя много дел, говорит она с улыбкой — понятно, тот, у кого такие прямые белые зубы, должен улыбаться. Он поднимает руку, забыв о ломе, о том, что держит его, словно собирается ее ударить, затем откладывает лом в полном замешательстве; зачем ты приходишь, из жалости, спрашивает он грубо, с неприкрытой злостью — конечно, не надо с ней так, но в нем словно вскрылась какая-то жила. Она перестает улыбаться, осознает свою вину, она явно смущена, или нет, это какое-то другое выражение лица; Бенедикт упорствует в гневе, говорит, прилагая все усилия, чтобы убрать злость из голоса: я не переношу жалость, ненавижу ее, и лучше тебе уйти, и забери эту коричневую сумку, она в передней; он наклоняется за ломом, словно хочет выделить последние слова, что ему делать еще этим чертовым ломом, держит его только для того, чтобы она ушла. Но она и не собирается уходить, все еще стоит там, высокая, с короткой мальчишеской стрижкой, сильная; он, к сожалению, чувствует ее присутствие, сильно напоминающее легкое давление на кожу, и смотрит на лом. Возможно, я из жалости выхожу из дома на собственный двор, говорит она абсолютно спокойно — вот бы ему научиться так говорить, с таким спокойствием; он быстро переводит взгляд с лома на нее: смотреть на женское лицо намного приятнее, чем на лом. Он поражен, но не этим различием между женским лицом и ломом, а ее словами; хочет схватиться за затылок — он часто так делает в нерешительности, но тут вспоминает о ломе: я, собственно, понятия не имею, что мне ремонтировать этим ломом, произносит он в полной растерянности.
Таким был третий визит.
Несмотря на сильный дождь и ветер, они спокойно шли из овчарни к дому, говорили мало: слова либо с трудом находились, либо казались излишними — Бенедикт не был полностью уверен, но ему понравилось идти с ней рядом; он испугался этого чувства, однако смог спросить, почему она пришла с небольшой коричневой дорожной сумкой; такое у меня странное чувство юмора, ответила она, и еще мне хотелось сделать что-то… неразумное, что-то из ряда вон, думаю, иногда это единственное, что человек может сделать, сказала она и внезапно попрощалась, даже не объяснив, что имела в виду, только улыбка в дожде, черная мальчишеская голова, и вот ее уже нет. Только тогда он понял, что забыл сообщить ей о том, что через две с лишним недели собирается в Лондон, но затем потряс головой и сказал самому себе, дождю или псу: будто ее касается.
Прошла одна неделя, две, так это и бывает: время идет, и мы стареем, или, как говорится в одном стихотворении, дни приходят, дни уходят, а потом мы умираем. Только у нас все не так драматично и поэтично: дни приходят, дни уходят, а потом Бенедикт едет в Лондон. Вас, наверное, удивляет, что он, этот одинокий фермер, это большеносое одиночество, едет в Лондон, для чего, а что же с овцами, с собакой, ведь такая деревенщина обычно не ездит сильно дальше Рейкьявика, ну максимум в Осло? Все дело в почте, с ней, вы знаете, к нам много что попадает; Бенедикту почту привозит Вигдис, она — один из ходоков Августы, глупо, однако, называть ее ходоком: Вигдис развозит почту на своем японском джипе, медленно переезжая от хутора к хутору; она всегда слушает радио или кассету и жует мятные леденцы по три пачки в день, чтобы не тянуло курить. Вигдис оставила буклет какой-то туристической фирмы в почтовом ящике Бенедикта, что само по себе, конечно, не новость — наши дни наполнены красивыми туристическими буклетами: солнечные пляжи, Карибское море, большие города падают в щелку, лежат в почтовом ящике, напоминая о многообразии жизни на Земле, такие красочные на фоне серых будней, они обещают нам новое небо за кредитную карточку — долго сопротивляться невозможно. Сначала Бенедикт даже не заглянул в буклет, положил его, не читая, в газетницу, но два дня спустя время тянулось так медленно, тащилось, как дряхлый старик, небо было серым и еще долго останется таким; Бенедикт посмотрел на кухонные часы, полагая, что они остановились и плавно наступила вечность, и выглядит она так: он за кухонным столом, никакой компании, кроме пса, да и тот спит. Тогда-то он и увидел буклет среди зачитанных газет. «Мировые города», значилось на обложке: согласно буклету, их двенадцать; Рейкьявик, естественно, не упоминался, наша деревня тем более, она ведь не город, да и Рейкьявик, в общем, тоже, строго говоря. Полистав, Бенедикт остановился на Лондоне, невозможно сказать почему: его совсем не интересовал футбол, для многих служивший прекрасным мотивом. Бенедикт, склонившись над столом, разглядывал две фотографии, сделанные на улицах города: на одной — Оксфорд-стрит, на другой — открытый рынок, женщина или девушка держит в руке какой-то фрукт, возможно сливу, пробормотал он, сходив за лупой, наверное, лет двадцать пять, светлые волосы, забавный хвостик, явно жизнерадостная, в белой футболке с короткими рукавами и синих джинсовых шортах, в сандалиях на босу ногу, маленькие колени, задумчивый профиль, красивые плечи; она словно кого-то ждет, может быть меня, бормотал он в кухонный стол. Несколько дней Бенедикт смотрел на эту женщину или девушку, с лупой или без, потом заказал по телефону билет: пятидневная поездка, со вторника по воскресенье.
Бенедикт выезжает в три часа ночи, не спят только июньская ночь и дождь, пес стоит во дворе и смотрит вслед машине, одно ухо опущено, он не понимает, почему его не взяли. Бенедикт наблюдает в зеркало заднего вида: кто же берет собаку в Лондон, хотя пес, возможно, с удовольствием бы съездил; вот было бы зрелище — два карих собачьих глаза из исландской глубинки в центре Лондона. Бенедикт оставил ему достаточно еды в лохани, воды в миске, Хеймир и Густа, живущие по соседству, будут за ним присматривать. Бенедикт едет по спящей стране, дворники делают свое дело без какого-либо внимания с его стороны, он проезжает через деревню, мы все крепко спим, сны витают над крышами наших домов. Бенедикт делает крюк у дома престарелых, очень медленно минует дом Турид и говорит вслух: кто-то едет в Лондон на пять дней; затем жмет на газ, на девяноста проносится мимо дома Астронома, который, возможно, не спит, хотя из-за капель дождя и света звезд не видно.