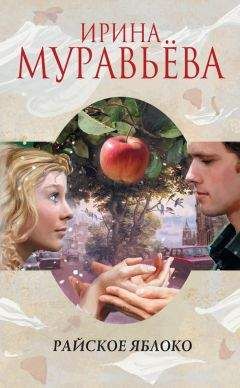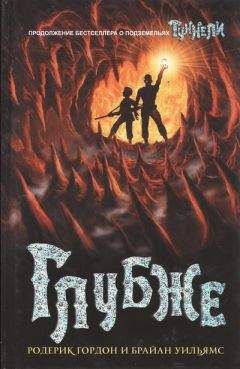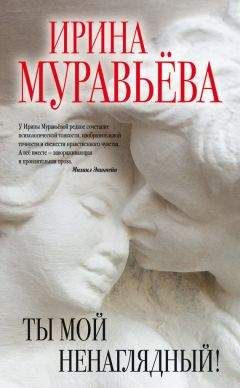Ирина Муравьева - День ангела
Дневник
Елизаветы Александровны Ушаковой
Париж, 1958 г.
Сегодня мы с Настей опять говорили о Патрике. Я сказала, что всегда чувствовала, что всякий человек должен сделать что-то одно – пусть даже незначительное, но свое, подлинное. А получается, что человека стараются впутать во все сразу, и ему кажется, что главное – это доказать, что он все понимает и обо всем у него есть свое мнение, поэтому то единственно важное, что он мог бы сделать, пропадает бесследно. Патрик своею цельностью был похож на моего Георгия, но мой Георгий раздражителен и часто несправедлив, а Патрик был уравновешенным и по-английски немногословным. Мы с Георгием поначалу были уверены, что это НКВД отомстило Патрику за его статьи в английских газетах о голоде в России. Большевики начали следить за ним сразу же, как только он уехал из Москвы. Мало ли кому он мог перебежать дорогу!
– Все перебегают дорогу всем. Так устроен мир, – оборвала меня Настя.
Ужасная эта манера у нее: перебить человека на полуслове! И как она не понимает, что сейчас я говорю о Патрике просто так, из вежливости. Какое мне дело до ее Патрика, погибшего двадцать лет назад!
Но я сдержалась.
– Помнишь, – сказала я, – как наши родители всегда и всего боялись? Но таких, как наши родители, было слишком много, не всех же могли уничтожить, а Патрик твой жил на виду, сам шел в руки.
Она затрясла головой.
– Шел в руки! – повторила она почти с презрением. – Это я шла в руки! Не шла, а летела! Тебе ли не знать!
У меня часто бывает такое чувство, что она давно догадалась о моей двойной жизни, хотя я ничего не рассказывала ей. Но, может быть, это просто моя подозрительность. Чтобы перевести разговор, я сказала, что завтра у меня есть одно очень важное дело: нужно дозвониться Антуану Медальникову, Лениному коллеге по Институту Пастера, и встретиться с ним. Он хочет отдать нам какие-то Ленины записи.
Настя вдруг произнесла странную фразу:
– А причина его смерти точно установлена?
Я даже отшатнулась: что она говорит!
– Ленечка умер от остановки сердца. Вере и Георгию объяснили врачи. Они объяснили подробно.
– Да, да! – подхватила она испуганно. – Я знаю, ты мне говорила!
Потом опять вернулась к своему Патрику:
– Бандиты взяли в плен его и еще одного журналиста, немца. Их продержали больше двух недель. Он мне писал, и письма доходили. Их почти не били, не пытали. Так он писал. Через две недели отпустили немца, а Патрика повесили и спустили тело в реку. А потом в английском посольстве меня уверяли, что он умер от сердечного приступа. Так же, как Ленечка.
Так же, как Ленечка! Не хочу ничего слышать. Не хочу, чтобы имя его произносили посторонние! Сын мой. Сын мой. Если бы я могла ни с кем не разговаривать, никого не видеть! Сидеть целый день и шептать: мой сыночек!
Анастасия Беккет – Елизавете Александровне Ушаковой
Москва, 1934 г.
Мы уезжаем из Москвы через две недели. В Лондоне Патрик не собирается задерживаться надолго, он отправляется работать то ли в Австрию, то ли в Германию. Я спросила, почему именно туда, и он очень просто сказал, что в России он понял, что такое коммунизм, а теперь хочет понять, что такое нацизм.
По-моему, за нами здесь следят. Вчера я стояла у окна и смотрела на улицу. Увидела товарища Варвару, которая подходила к нашему дому не одна, а с незнакомым человеком, издалека показавшимся мне похожим на белого негра: широкий приплюснутый нос, надутые губы, из-под низко надвинутой шапки торчат мелкие желтые кудри. Она стала ему что-то объяснять, показывая на наши окна, он закивал и несколько раз деловито высморкался в сугроб. Я отошла от окна с занывшим сердцем. Не могла решиться сказать об этом Патрику. Со времен его драки с Уолтером мы почти не разговариваем, хотя продолжаем быть вежливыми друг с другом, как будто ведем какую-то игру с жесткими правилами. И еще раз я увидела этого «негра» потом, когда ехала в трамвае. Он вошел следом в вагон и потом наблюдал за мной всю дорогу, заслонившись газетой. В вагоне было холодно, а я вся покрылась потом под пальто. Лиза, ты пойми: это во мне ужас животный, это не просто страх. Теперь по ночам мне все чаще хочется встать и проверить все замки, все двери, я иду в кабинет – Патрик теперь спит один в кабинете – и слушаю, дышит ли он, жив ли.
От Уолтера ни слуху ни духу. Тоскую по нему денно и нощно. Бегу на каждый звонок, хотя со дня увольнения Патрика из газеты нам почти никто и не звонит. Какие все трусливые, какие они все продажные! Каждый трясется за свою шкуру, за теплое местечко, и никто не хочет ни во что вмешиваться. Не люди, а требуха. Единственная, кто зашла после скандала, – Мэгги, жена Юджина. Она сказала, что у Буллита были очень недовольны поведением Патрика, и все намекают на то, что Патрик ударил Уолтера по личным причинам, а вовсе не из-за того, что Уолтер исказил картину колхозной жизни в своих статьях. Кто-то якобы спросил Уолтера после нашего ухода, правда ли то, что говорит Беккет, и Уолтер ответил сквозь зубы, что все это правда, но «это ведь русские». Всего-навсего!
(На следующий день)
Лиза! Вчера оборвала свое письмо на середине, сегодня мне необходимо дописать его. Необходимо. Провела очень тяжелую ночь. Снились какие-то маски, как будто я на карнавале, одна из этих масок все время облизывалась, и я знала, что она слизывает кровь, которая незаметна под гримом. Конечно, все это от моих постоянных мыслей, во-первых, об Уолтере, а во-вторых, о том, что я узнала от Патрика. От этих мыслей я не могу избавиться ни на секунду. Проснулась наконец после своего кошмара, вся разбитая, и увидела, что комната залита розовым ослепительным солнцем. Увидела сквозь шторы кусок очень синего неба и поняла, что начинается весна. Вспомнила, как было хорошо на душе раньше, когда начиналась весна. А в детстве! Ты помнишь?
Патрика дома уже не было, а товарищ Варвара вытирала пыль в его кабинете, но, когда я вошла, она очень резко отпрянула от письменного стола, как будто я ее спугнула. Я поскорее оделась и, несмотря на холод, пошла гулять. В переулке увидела старуху, которая так напомнила нашу Франсуазу, что я глазам не поверила: то же красное лицо с редкими старушечьими усами, те же слезящиеся голубые глаза с их покорным, коровьим выражением. Но Франсуаза всегда улыбалась, даже когда рассказывала нам свои грустные сказки, а эта шла сгорбившись и всхлипывала. Я чуть было не крикнула ей: «Франсуаза!», потом сообразила, что наша Франсуаза давно умерла и покоится на кладбище в Тулузе. Какая там Франсуаза! Все чужое мне в этом городе, и я всем чужая. Я не успела даже толком подумать об Уолтере, как вдруг меня охватило такое желание увидеть его прямо сейчас, такая поднялась тянущая боль в животе и заколотилось сердце, что я побежала по этим заваленным снегом переулкам, и мне стало жарко на морозе.