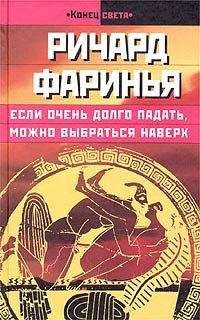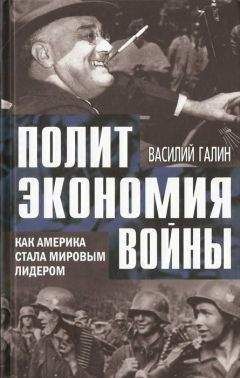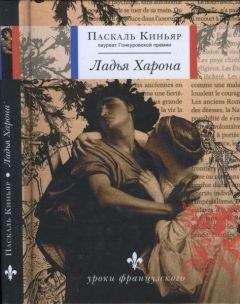Паскаль Киньяр - Салон в Вюртемберге
Занятия в Международной музыкальной школе возобновились 1 октября. Каждый вторник я ходил на улицу Пуатье. Начиная с 1 января 1966 года мне предстояло работать более регулярно, два дня в неделю, в издательстве «Галлимар»: я должен был в течение полугода замещать Фердинана Груа, уехавшего на целый семестр в Соединенные Штаты.
Некоторые внезапные волнения способны прояснить загадку незнакомых доселе страхов или тайну назойливого кошмара. В конце зимы в кабинете Фердинана Груа, где я работал, зазвонил телефон. Я узнал голос. Мое лицо мгновенно взмокло от испарины, горло судорожно сжалось. Это был голос Изабель. На самом деле я ошибся, приняв желаемое за действительное. Звонила всего лишь Николаева, чтобы пригласить меня на ужин.
Случалось, мне звонила и мадемуазель Обье. Иногда – правда, довольно редко – чтобы позвать меня на воскресенье в Сен-Жермен. Иногда – чтобы поблагодарить за присланный ей перевод, за пластинку: «Месье Шенонь, позвольте мне сказать, что я заглянула в вашу последнюю книжку и уже буквально глотаю слюнки в предвкушении подробного чтения…» В других случаях она, никогда не позволяя себе жаловаться на отлучки Дени Обье, сетовала на бессонницу, измучившую ее накануне ночью, в свойственной ей манере, неизменно вызывавшей у меня восхищение: «Знаете, месье Шенонь, моя мамочка говаривала: если вертишься с боку на бок в постели, значит, ты еще на этом свете, а не на том». И она смеялась в трубку своим неподражаемым, дребезжащим и грустным смешком.
Окно моего кабинета в издательстве «Галлимар» служило рамкой пейзажу с зазябшим, укутанным в снег садом. Мой рассеянный, слегка утомленный взгляд блуждал между стареньким обезвоженным фонтаном – воду выключили по причине морозов, обрушившихся на Париж еще в январе, – и облысевшими деревьями, чьи застывшие, перепутанные белые ветви воздымались к низкому сумрачному небу.
В нашем чересчур цивилизованном обществе человек опасается откровенных признаний: их стыдно произносить вслух, они ранят самолюбие или, что еще хуже, способны опорочить то представление о нем, которое он хочет внушить окружающим; в результате любой образ становится прискорбно обедненным, бесцветным, невыразительным, плоским, как игральная карта, и, разумеется, в высшей степени пристойным, как и все, что лишено жизни, – вот почему искренность так чарующе привлекательна. Более того, откровения скоро становятся – особенно в конце дня, зимой, с наступлением сумерек, в кабинетике на улице Себастьена Боттена, куда Костекер, или Клаус-Мария, или Эгберт Хемингос заходили за мной и где задерживались, чтобы помечтать вслух, – привычкой, которой вечерние часы или усталость придают особый шарм. Само сознание, что можно слегка принизить себя в глазах друзей, что можно безбоязненно обнажить перед ними свою вполне банальную ранку, внушает иногда непрочную иллюзию, что мы компенсируем самоуважение, от которого притворно отказались, душевным мужеством, рискованным старанием докопаться до истины и охотно демонстрируем это окружающим. Но если вдуматься глубже, откровенность создает у нас ощущение, что мы общаемся с себе подобными, с равными, что доказываем свою принадлежность к людской общности, зарабатывая, таким образом, индульгенцию на будущее; нам кажется, что все мы – животные с одинаково низким развитием, почти одинаково хищные и весьма малочисленные. И мы испытываем умиротворение, почти благодарность при мысли о том, что нам нравится походить друг на друга, ничем не выделяться из общей массы. В конце концов, мы даже находим радость – и сколь редкую радость! – в подобной уравниловке.
Я обрел эту связь – или эту радость – подле Рауля Костекера. И она длится до сих пор. Магазин музыкальной литературы и сегодня существует под аркадами улицы Риволи. Низкие книжные витрины были с большим вкусом расставлены по всему помещению. Сейчас их стало меньше. И ни одна из них не смотрела на улицу. По стенам тянулись полки из резного дерева. Несколько старинных полотен и несколько сверхсовременных картин стояли на полу или висели на маленьких медных кронштейнах, торчавших над полками. Рауль – человек с неприступно-холодной внешностью. Тогда ему было около пятидесяти лет, он был неизменно одет как картинка, любил мужчин – но крайней мере, в тот момент, когда наслаждался близостью с ними, хотя сразу же после этого чувствовал отвращение, заставлявшее его ограничиваться одной-единственной встречей с каждым из них. Безмерно одинокая, утонченная, меланхоличная натура. Магазин ведет свою историю с 1822 года. Это единственное место, где по вечерам я чувствую себя умиротворенным, где люблю сидеть до тех пор, пока Костекер не запрет двери и мы не отправимся к нему ужинать. Магазин, как правило, пустует: случайных посетителей отпугивает это монашески строгое пространство, кресла, расставленные вокруг витрин, которые не смотрят на улицу, сумасшедшие цены на инструменты, рукописи и книги. Я устраиваюсь в кресле в уголке зала и сижу в приятном полузабытьи, любуясь изысканными, старинными вызолоченными переплетами мастерских Авьелара или Бапома, изучая автограф Гайдна или Рамо, разглядывая лютню Пьерре или большую виолу Антуана Верона, которые внезапно загораются блеском в свете лампочки, включенной каким-нибудь клиентом или самим Раулем. И грезя о годах Революции, когда Коликер спускал за бесценок инструменты, умиравшие вместе со старым режимом, и когда лот из восьми виол стоил всего семьдесят пять сантимов.
Четыре часа ночи… что это за странный призрак хватается за работу? Что за существо, живущее у меня внутри, так неистово стремится к труду? Любопытное явление: вода – капля по капле, день за днем – никак не точила камень. Работа не приносила мне забытья. Я так и не смог понять, какая надобность в тяготах, в страданиях понуждала меня заполнять трудовой деятельностью каждую минуту, каждый день моей жизни? Чье лицо скрывал этот лакедемонянин? Иногда мне вспоминалась короткая считалочка, которую сестры Лизбет и Люиза пели друг дружке в детстве, прыгая через веревочку:
Напилим дров, напилим дров
Для мамы и для папы…
Я перечитываю все эти слова, вышедшие из-под моего пера. И нахожу им не много оправданий – разве только нетерпеливое стремление к откровенности и надежду, что она подарит мне хоть какое-то подобие покоя. Увы, я пока еще не испытал ни покоя, ни того заветного тепла, того особого, нежного и ностальгического света, которых душа ждет в обмен на свои откровения, как будто голос – это некий пароль, способный открыть доступ чему-то совсем иному, нежели сам голос, более того, как будто это ключ к прощению и ласке, которые вымаливаешь у того, кто никогда не умел расточать их.
И еще: я не сомневаюсь, что это стеснение, эта угнетенность, это сознание нечистой совести было сравнимо с комплексом вины, которую мы испытывали, говоря в присутствии мамы по-немецки, и стыдом при пользовании французским языком, когда мои соученики тыкали в меня пальцем, обзывая оккупантом, вором и грабителем. Доступ в Итаку мне заказан. Я не могу прибиться ни к берегам Ягста, ни к берегам Сены. Вот почему и тружусь до седьмого пота – чтобы получить прощение за эту вину, за то, что меня нет там, где надлежит быть, за то, что я – вечный странник, тростник колеблющийся, ренегат, двурушник, переводящий с немецкого на французский или с английского на французский, шпион, пятая колонна в каждом из двух языков, предатель, который надеется своими ухищрениями, скорее доказывающими предательство, нежели опровергающими его, добиться отпущения грехов. Вот почему я перевел два десятка биографий, работая исключительно с трех-четырех часов ночи до семи утра, – в том числе биографии Каччини, Фукса, Куперена, Галиле-старшего, Арканджело Корелли.[64] Проценты с продаж, вначале весьма скромные, накапливаясь, стали складываться в весьма ощутимые суммы. Занятия в школе на улице Пуатье, гастроли, записи – я не упускал ничего. И становился довольно богатым человеком.
Я наделен пантагрюэлевским аппетитом швабов и пунктуально соблюдаю их обычай плотно есть четыре раза в сутки. В ночные часы, когда я сажусь за рабочий стол, а потом встаю из-за него, я чувствую откровенный голод, усугубляемый еще и воспоминаниями, более или менее прочно запечатленными в моем сердце. Вообразите себе призрак с чашкой в руках, представьте, как этот колдун мешает ложкой суп с Spätzle, режет грибы на кубики или ломтики, кропит сковороду несколькими каплями уксуса, бросает в нее кусочки маринованной говядины или печени, Bachsteiner или Knodel.[65] И при всем том ухитряется быть тощим, как герой Гриммельсхаузена в хижине отшельника. Вот таким, совершенно голым, со сковородой в руке, я несколькими годами позже, в 1969-м, ответил на телефонный звонок: мне заказали срочный перевод биографии Джезуальдо,[66] который прожил действительно очень романтическую и довольно легкомысленную жизнь; книгу расхватали, как горячие пирожки. Благодаря этому я смог в следующем, 1970 году купить небольшой старинный дом на берегу Луары, в Удоне, – местные жители называли его «muette» (охотничий домик); я сильно подозреваю, что именно это словцо меня и соблазнило. Нотариус охотно разъяснил мне, что в таких домиках, построенных в глубине охотничьих угодий, содержали соколов или оленей во время линьки. Впоследствии эти павильончики служили местом галантных свиданий – эдакие приюты любви. Что ж, мои поездки в Удон также уподоблялись линьке. Этот старенький домик, пристанище охотника или рыболова, стал для меня олицетворением тишины, немоты[67] – немоты в тишине. Я любовно окрестил его своей немой гаванью. Здесь в Луару впадала маленькая речушка – Гавр.[68] Удон находился в десятке километров от Лире и Ансени, где я пять лет подряд проводил лето, живя первобытной жизнью и стараясь, в меру своих сил, подражать Симплициссимусу. Репа, фасоль, горошек, чечевица, ягоды и груши, яблоки и вишни, птицы, слизни и лягушки, барабулька и угри, топор лесоруба и железная кружка, широкая река и солнце, лопата, нож, рыболовная сеть и смола – таковы были плоды земли, инструменты и живые существа, которые я полагал необходимыми для счастья.