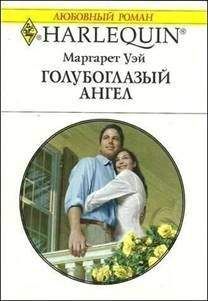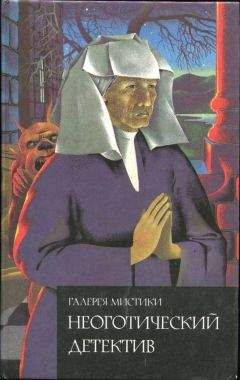Маргарет Лоренс - Каменный ангел
— Она непохожа ни на тебя, ни на Телфорда, — сказала я. — В кого она пошла?
— В мать Телфорда, — произнесла Лотти голосом, холодным, как свет полярной звезды.
Довольная, я вежливо допила чай.
— Я совершенно ничего не имею против того, чтобы они поженились в будущем, — наконец сказала я. — Только думаю, им не нужно этого делать сейчас. Ведь у них нет ни гроша.
— Мы с Телфордом тоже так считаем. Им бы подождать, пока все уладится и средства появятся, заодно и проверят, серьезны ли их чувства.
Я кивнула:
— Они совершат роковую ошибку, если поженятся впопыхах, а потом поймут, что это было всего лишь наваждение. Знаю по себе.
Теперь я могла позволить себе такую подачку.
— Да уж, — сочувственно сказала Лотти.
— И все же главный повод для тревоги — это деньги, — добавила я.
Я говорила серьезно. Произнося эти слова, я почти забыла о Лотти. Я думала об этой парочке и представляла, как они живут на пособия, возможно, уже с детьми, и как я, повинуясь голосу долга, отправляю им все, что могу, но денег все равно не хватает. Я представляла их с целым выводком детей — таких же, как отпрыски Джесс, вечно сопливых, в приспущенных штанах не по размеру, ношенных уже не одним поколением. Мысль была невыносимой. По сравнению с этим остальное не имело значения — мне больно было думать о том, через что я прошла, чтобы увезти Джона как раз от такой жизни. Я вспомнила этот запах, эту ломоту в костях, эту серую мыльную накипь на жестяных тазах.
Посмотрев на Лотти, я увидела в ее глазах тот же страх.
— Агарь… А вдруг у них родятся дети? У нас с Телфордом… ты не поверишь, но у нас почти нет сбережений. Мы просто не сможем…
— И я не смогу, — сказала я. — Не знаю, Лотти. Страшно подумать, что это будет.
— Она — самое дорогое, что у меня есть, — продолжала Лотти. — Дороже ее никого нет. До ее рождения я потеряла двоих детей. Она для меня — всё. Ты не понимаешь…
И тогда я все поняла и прокляла себя за недавнюю жестокость, за то, что думала только о себе.
— И он мне дороже всех, — сказала я. — Только и живешь надеждой, что все будет хорошо, а когда все наперекосяк, то и не знаешь, как такое вынести.
Она кивнула, а потом мы посидели в тишине. Это было странное ощущение: всю жизнь мы считались друзьями, если можно так выразиться, но лишь сейчас впервые испытали друг к другу теплые чувства. Так и сидели там, среди салфеток и чашек, две толстые пожилые женщины, которым пришлось оставить выяснение отношений и объединиться в неравной борьбе с Богом и судьбой.
— У Телфорда есть кузина на Востоке — она всегда звала Арлин в гости, — сказала Лотти. — Думаю, она бы согласилась поехать, если бы ей нашли там работенку или хоть приплачивали за работу по дому — дом у Каролины огромный, а служанку она больше не держит. Напишу-ка я ей сегодня.
— Да, мысль хорошая, — согласилась я. — И пусть предложение делает сама Каролина.
— Само собой, — сказала Лотти.
Мы поболтали о том о сем, о старых временах, об общих знакомых. Затем из каких-то неведомых глубин моей памяти вдруг всплыла картинка из прошлого. Я не могла не заговорить об этом.
— А помнишь тех цыплят на помойке, Лотти, когда мы были еще маленькими? Я всегда удивлялась, как ты смогла. Последнее время я об этом подзабыла, но раньше меня всегда мучил вопрос: ты, наверное, гордилась таким поступком?
— Цыплята? — смеясь, удивилась Лотти. — Не припоминаю такого.
В следующий месяц все шло по-старому, Арлин почти все время была у нас, чем страшно меня раздражала.
— Она что, будет приходить сюда каждый Божий день? — не выдержав, спросила я у Джона.
— Если тебе это так не нравится, — гневно ответил он, — я не буду ее приводить сюда вообще. Тебя это устроит?
— Да, устроит, — сказала я. — Очень даже устроит.
Зачем я так сказала? Как только это слетело с моих губ, я об этом пожалела. Но брать слова обратно считала ниже своего достоинства.
Весь этот долгий месяц, когда над пожелтевшими утесами, словно мираж, стояло марево, а дьявольский ветер выжигал скудную траву и опустошал поля, эти двое ютились в канавах и на пыльных обочинах дорог, где даже сорняки давно выгорели и засохли. Я так и не узнала, куда они уходили, где устраивали себе временное ложе и что им довелось познать за это время.
Я вздрагиваю и прихожу в себя. В одной руке я держу клок сырого мха, а у моих ног горбится слепой слизень, пытаясь залезть на мою туфлю. Что на меня нашло? Похоже, я сижу на этом упавшем дереве целую вечность. В лесу стало холодно. Я голодна, близится ночь.
Я не смогу ночевать в том же доме. Не осилю лестницу. Да и если придут незваные гости, они наверняка полезут в дом, а не на фабрику. Пойду туда. Там безопаснее. Там слышно море и воздух свежее.
Я осторожно иду обратно. По пути захожу в дом и пью из того же ведра. Затем пересекаю поросшую сорняками дорожку, открываю дверь фабричной постройки и заглядываю внутрь.
VIII
Постройка являет собою хранилище всевозможных останков и всякой всячины, словно это не заброшенная много лет назад рыбоконсервная фабрика, а сундук старого моряка-великана. В единственном огромном помещении — высокие, массивные стропила, как в коровнике. Пол устлан досками, почерневшими от темного масла и рыбьей крови. Проржавевшие и утратившие былой вид инструменты беспорядочно разбросаны, как будто кто-то собирался за ними вернуться, а потом передумал. В углах — пеньковые канаты, напоминающие уставших змей, вялых и неспособных более сворачиваться кольцами, как положено. Деревянные ящики, некогда аккуратно составленные один на другой, а теперь разбросанные по всему полу, до сих пор подписаны благородными названиями: «Отборная нерка», «Лучший кижуч». Рыбацкие сети, развешанные по бочкам, словно занавески, или разложенные на полу влажными затхлыми складками, по всей видимости, оставил последний рыбак, принесший сюда свой улов. Некоторые из них отлично просохли, а если их потрясти, на пол летят лишь сухие крылья усопших мотыльков. Не ахти какое одеяло, но все лучше, чем ничего.
В дальнем конце длинного помещения я вижу заброшенную рыбацкую лодку на возвышении из плит: без внутренностей, без снастей, с облупленной синей краской. Это даже не лодка-призрак. Пожалуй, таким вот скелетом выглядела потрепанная морем ладья, на которой много веков назад отправлялся в последний путь мертвый викинг. Не нравится мне эта лодка. Устроюсь-ка я здесь, среди ящиков и сетей.
Вот горка морских раковин. Кто-то собирался взять их домой на пепельницы и забыл. Внутри у них — песок, прощальный подарок моря. Снаружи бледно-коричневые ракушки украшены причудливыми полосками и бороздками. Я подбираю их и верчу в руках, ощупывая грубую поверхность и гладь перламутра внутри.
Все, что мне нужно, у меня есть. Перевернутый ящик — это стол, другой послужит стулом. Я накрываю на ужин и ем. После ужина еще светло, и я вижу в раковине у моих ног штук пять майских жуков. Я трогаю их ногтем. Они мертвы. После смерти, однако, они ничуть не потускнели. Спинки у них зеленые и блестящие, с четкой металлической линией по центру, а брюшки отливают чистой медью. Раз уж я нашла драгоценности, надо их надеть. Ну а почему бы и нет — здесь некому сказать, что я сошла с ума. Я снимаю шляпу — для этой обстановки мой строгий головной убор с растущими на нем цветами все равно не подходит. Затем старательно украшаю волосы нефритом и медью. Смотрюсь в зеркальце в моем кошельке. Мне нравится. Украшения оживляют седину, преображают меня. Я сижу прямо и неподвижно, сложив руки на коленях, — королева бабочек, владычица уховерток.
Внезапно меня накрывает волна усталости, а постоянная боль в груди заставляет обратить на себя внимание. Стопы опухли от тесных туфель, а тяжелые вены горят, как длиннющие волдыри. Я выдохлась за день, хоть и ничего не делала, всего-то немного прогулялась. Не могу вспомнить, чем я занималась утром. Ходила в лес? Или это было после обеда? Это не важно, но сам факт, что я не помню, меня раздражает. Я напрягаю память, но утро остается для меня тайной. Может быть, я убиралась в том, другом доме. Не выношу грязных домов.
Мне становится дурно, кружится голова. Ну вот. Свершилось. Я упала со своего ящика и теперь сижу на полу, растопырив прямые, как палки, ноги и держась руками за свой шарообразный живот, как будто, если я его отпущу, он оторвется и уплывет ввысь.
В помещении летает чайка. Я слышу, как она хлопает и шуршит крыльями, взлетая и садясь. Она испуганно мечется, но не может выбраться из ловушки. Ненавижу птиц в доме. В своей панике они противоестественны. Если она заденет меня, я этого не вынесу. Птица в доме — смерть в доме, так мы говорили раньше. Чушь, конечно. Но эти птичьи трепыхания пугают меня, вызывают отвращение. Вот чайка резко планирует вниз, как ястреб на охоте, и, не соображая, что делаю, я кидаю в нее ящик из-под рыбы, надеясь спугнуть эту тварь. К моему ужасу, ящик попадает прямо в птицу, и она падает. С пронзительным криком, волоча за собой окровавленное крыло, она проползает совсем рядом со мной — я могла бы дотянуться до нее рукой. Получается, я сломала ей крыло? Может, мне ее убить? Если бы я услышала эту историю от кого-то или представила такое сама, находясь за много миль отсюда, я бы хоть немного, но пожалела раненую птаху, отдавая дань уважения красоте ее стремительного полета. Но сейчас я хочу одного: избавиться от нее, закрыть ее клюв, чтобы не слышать этого крика. Я бы с радостью ее убила, но не могу заставить себя приблизиться к ней.