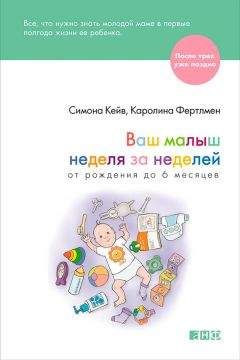Леонид Гартунг - На исходе зимы
Некоторые ребята были обижены, другие гордились своими успехами, но кончился учебный год, мы разошлись на каникулы и вскоре забыли и о психоанализе и об Ивине. Вспоминалась только товарищ Маша.
2Наступила осень, мы снова пришли в класс. И снова собралась наша бригада. Витька Бутузов рассказывал о рыбалке, Женька по-прежнему подсказывал Вере. Новым у него было то, что он стал умываться и причесываться, и мы узнали, что он с Верой ходит в кино. Сама Вера тоже изменилась: она перестала списывать с чужих тетрадей. Сопела, на глазах у нее появлялись слезы, но решала задачки сама. Мы с Деревягиным увлеклись просмотром диапозитивов на стекле. Почти каждый вечер оставались после уроков, опускали шторы в историческом кабинете, и на стене возникали развалины Рима, коралловые острова, белые медведи. Диапозитивов в школе была целая гора, и смотреть бы их нам не пересмотреть, как вдруг опять появился Ивин.
Он пришел в класс во время урока и на этот раз не поднимал руки и не смотрел на нас гипнотическим взглядом. Он только подошел к учительнице литературы и что-то шепнул ей на ухо, после чего она поднялась и сказала громко:
— Пичугин и Гартунг, на психоанализ.
Мы с Женькой собрали свои тетрадки, книги и пошли из класса. Женька успел обернуться и показать ребятам пребольшой нос — дескать, вам корпеть над Неверовым, а мы вольные птицы. Что касается меня, то мне это не понравилось. Одно дело, когда нас водили на психоанализ всем классом, а тут выдернули, как две морковки из грядки.
В коридоре профессор Ивин дал нам по двадцать копеек на трамвай и велел ехать в университет, в первый корпус и найти комнату номер семь.
— Не заблудитесь?
— Еще чего не хватало, — презрительно сплюнул Женька.
Как только мы вышли на улицу, Женька купил в ларьке две папиросы. Одну закурил, другую положил в кепку.
— А как поедешь? — спросил я.
Женька весело присвистнул. Таких проблем для него не существовало. Я сел в трамвай, а он прицепился сзади.
Весной мы приходили в университет целым классом, шумели, смеялись, и я тогда не замечал красоты университетских зданий. Мы нашли знакомый корпус и с трудом открыли тяжелую дубовую дверь с зеркальными стеклами. В лицо пахнуло каменным холодом вестибюля. Под высоким потолком я показался себе кем-то вроде муравья, и каждый наш шаг по кафельному полу гулко отдавался в тишине, словно я шел по струнам.
В комнате № 7 никого не было. Мы с Женькой оказались в окружении книг. Они смотрели из-за стекол шкафов золотым тиснением корешков. Комната была длинная, и в широком венецианском окне склонялась ветка клена.
В коридоре простучали каблучки, дверь отворилась, и музыкальный, единственный во всем мире голос спросил:
— Пришли? Ну, проходите. Что же вы?
Товарищ Маша была все такой же и вместе с тем другой — изящнее и чем-то неуловимо взрослее. Я думал раньше, что красивее, чем она, уже нельзя быть, а она за это время еще больше похорошела.
Она усадила нас с Женькой в разных концах стола и уселась против меня. И опять от нее пахло цветами жасмина, и большие серые глаза смеялись. Она спрашивала об отце, о матери и записывала мои ответы. Я отвечал как во сне. Потом она дала мне тесты и сказала, чтобы я писал, а сама подсела к Пичугину. Он стал говорить о родителях, я невольно прислушался и забыл о тестах. Рассказывал он нечто совершенно удивительное: как будто отец его, герой гражданской войны, погиб где-то в заволжских степях, а этим летом к Женьке приезжал Чапаев, друг отца. Они вместе с ним сражались против белых, и он обещал взять Женьку к себе, когда тот окончит школу.
— Ты ошибаешься, — сказала очень серьезно товарищ Маша, — Чапаев не мог к тебе приезжать. Он погиб…
— Нет, — возразил Женька твердо. — Вы не знаете. Чапаев и сейчас в армии служит, только под другой фамилией. Он теперь засекреченный, чтоб буржуи не знали, что у нас есть Чапаев…
Товарищ Маша слушала и писала. Потом дала ему тесты, а сама пересела ко мне. Я изо всех сил старался показаться умнее, но как назло ничего не получалось. Мне очень хотелось догнать Витьку Бутузова. Искоса я взглянул на Женьку — он, склонив голову и высунув кончик языка, старательно рисовал на своем листке чертика с большими рогами.
Пришел профессор Ивин, посмотрел на Женькиного чертика. Лицо его стало задумчивым и несколько озадаченным. Товарищ Маша тоже увидела чертика и хотела порвать листок, но Ивин сказал:
— Вот это как раз и интересно.
Маша взяла листок с чертиком и спрятала его в папку. «Дурак, — подумал я о себе, — мог бы и десять чертиков нарисовать».
Товарищ Маша дала нам задание и сказала, что скоро вернется.
— Женька, — спросил я, — зачем ты заливал про Чапаева?
— Я? Заливал? — Женька побледнел от возмущения. — Да вот ни на столечко.
Он подсел ко мне.
— А хочешь, я тебе одну тайну открою? Только побожись, что никому.
— Я в бога не верю.
— Тогда пионерское.
— Честное пионерское.
— Так вот слушай: вовсе я не Пичугин, а Максимов. Пичугин мне не родной. Ты знаешь, он кто? Бывший граф, а теперь скрывается под чужими документами. У нас во дворе есть подземный ход. Один раз ночью смотрю — надевает он черные очки и во двор. Я за ним. Он в подземный ход, я опять за ним. Там все выложено камнем, и комната сделана, а в комнате огромный сундук, железом кованный. И замок во какой. Открыл он сундук, а там золото. Слитки крупные, как тарелки. Блестят, аж глазам больно. Он в черных очках, ему ничего, а я посмотрел и ослеп. Ничего не вижу. Едва выход нашел. Ты что, не веришь? А помнишь, у меня глаза болели? Прошлой зимой. От этого самого. Хочешь — побожусь? Ей-бо!
Женька перекрестился.
Я сидел онемевший от удивления. Женька, довольный произведенным впечатлением, звонко прищелкнул языком.
— Вот оно как… Только ты смотри…
Товарищ Маша все не возвращалась. Мы уже захотели есть.
— Пошли домой, — предложил Женька.
— Нет, — сказал я. — Надо дождаться.
— Иди поищи ее.
Я пошел искать, обошел весь первый этаж и не нашел ни товарища Маши, ни Ивина. И вдруг, возвращаясь обратно, я увидел их обоих в открытое окно. Они сидели на скамейке под деревом, и вся земля вокруг них была усыпана желтыми листьями. Лица Ивина я не видел. Передо мной торчал только его затылок — розовый, тугой, свежеподстриженный. Ивин говорил что-то, и перед лицом товарища Маши мелькала в воздухе его волосатая рука. Слов расслышать было невозможно, но я видел лицо товарища Маши и понял, что слова Ивина причиняли ей боль. Такого несчастного и покорного выражения я ни у кого никогда не видел. Умоляющим жестом она пыталась остановить его, но он продолжал говорить.
Я вернулся в кабинет.
— Нашел? — спросил меня Женька.
— Нет, — ответил я и отвернулся, перебирая заполненные мной тесты. Откуда-то взявшаяся слеза капнула на листок и размазала несколько букв. Они расплылись и обросли фиолетовым сиянием. Тогда я взял чернильницу, наклонил ее под бумагой, и слеза превратилась в большую кляксу. Затем я подрисовал ножки, и получился настоящий паук-тарантул. Я подписал внизу печатными буквами: «Ивин».
Домой мы шли с Женькой вместе. Около Привалова моста, где нам надо было расставаться, Женька предложил:
— Пойдем ко мне.
— Меня дома ждут, — возразил я неуверенно.
— Пойдем, — ударил меня по плечу Женька.
Мама запрещала мне ходить в овраг, но как было отказаться. Очень уж хотелось увидеть подземный ход.
Глебучев овраг был осколком дореволюционной России. Его тогда начинали засыпать, но это было не так просто — на многие километры раскинулось беспорядочное скопление домишек и лачуг. Здесь никто не строил надолго и прочно. Сколачивали жилье из всего, что попадало под руки: из краденых досок, ящичной фанеры, обрезков листового железа, из чего угодно, лишь бы влезть под крышу, загородиться от дождя и ветра. Иногда такое жилье вырастало за сутки, а стояло десятилетия. Перед кривыми окошками лачуг неумолчно журчала банно-мутная вонючая вода, висело цветное белье на веревках, в зарослях бурьяна бродили белые козы.
Женька Пичугин жил в полуземлянке, выкопанной на склоне оврага. Окна были вровень с землей, напротив пестрела простенькими цветами клумба. Передняя стена была выбелена. Внутри все было очень бедно, но чисто. Мать Женьки, молчаливая, похожая на монашку, поставила перед нами глиняную миску с горячими лепешками и блюдце со сметаной.
Расправившись с лепешками, мы вышли на маленький дворик, выкопанный уступом. Женька показал мне своих голубей, трех коричневых «туляков» и летнего «грека». Голубятня была сооружена из старой бочки из-под цемента.
В небольшом сарайчике у Женьки находилась «библиотека» — две полки с истрепанными книгами.
Потом он похвастался своей коллекцией «ленточек», то есть отдельных кадров кинолент со знаменитыми артистами. Некоторое время мы сидели на траве и рассматривали через лупу Дугласа Фэрбенкса, Гарри Пиля, Вильяма Харта и Мери Пикфорд. Он словно нарочно испытывал мое терпение.