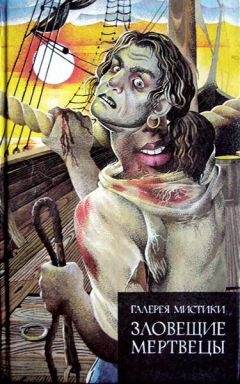Авраам Иехошуа - Господин Мани
— Да, сэр, все эти сведения я почерпнул из показаний самого обвиняемого, но позаботился и об их проверке, насколько это возможно. Прошу прощения за столь длинный рассказ, но, поверьте, это необходимо, просто необходимо…
— Благодарю вас, сэр. С тех пор прошло много лет — почти двадцать, сэр, но должны ли мы ставить себе пределы, если речь идет о времени, в глубину которого нужно проникнуть, чтобы найти корни измены, подрубить их и выкорчевать? Семья была буквально сокрушена свалившимся на нее горем, консул, их заступник и покровитель, давно в могиле, родильный дом на грани закрытия. Какое-то время шведка еще пыталась сохранить практику, сначала открыто, потом как бы подпольно, поскольку власти потребовали закрыть роддом — врач-то умер. Долги росли, пришлось продать часть оборудования, потом стали сдавать комнаты паломникам, и постепенно дом пришел в полный упадок. Накануне Рождества, на пороге нового века Иерусалим наводнили толпы паломников, железная шведка вновь обрела вдруг утерянную веру и вернулась на родину. Я говорю о декабре 1899 года. Наш обвиняемый, оставшийся сиротой лет, стало быть, в двенадцать, всегда отличался характером независимым даже при жизни отца, после же его смерти он стал совсем самостоятельным. Если господину полковнику будет угодно, он может представить себе хоть на мгновение Мани-подростка — я лично пытался делать это часами: худой, чернявый (смуглость досталась ему от матери), в очках, меланхоличного склада, большей частью погруженный в себя, грезит наяву, говорит сам с собой. А на дворе конец декабря, год 1899-й, в Иерусалим пришла наконец зима, в церквях не смолкают колокола, на улицах нескончаемые процессии русских паломников, все слегка возбуждены: век уходит — век приходит. И вот в один прекрасный день, рассказывает мне обвиняемый, — дело было к вечеру — спускается он на первый этаж опустевшего роддома и к своему изумлению видит: на одной из кроватей корчится в родовых схватках женщина, молодая еврейка, из тех искательниц приключений, которые сами на свой страх и риск приезжали в Палестину из Европы, чтобы возделывать землю в одном из еврейских поселений, влекомые то ли идеей, то ли стремлением сбежать из отчего дома. Из последних сил она дотащилась до Иерусалима — ей дали адрес, а про то, что роддома уже не существует, никто в ее краях не знал. Она приехала, зашла и, никого ни о чем не спрашивая, легла на койку. Да и спрашивать было некого, ни матери, ни сестры, ни бабки дома не было — они пошли смотреть на крестный ход. Он оказался один на один с роженицей, а она криком кричит, рвет одеяло; он стоит и смотрит то на нее, то в огромное зеркало, а она все кричит, взывает к нему, просит помочь. Сначала он словно окаменел, потом, придя в себя, попытался помочь ей раздеться, но запутался в тряпках, а она все молит о помощи; он пошел за ножом, режет ткань и видит кровь, женщина хрипит, а он стоит посреди холодной комнаты не в силах ничем помочь; она заклинает: не уходи, держи нож, перережешь им пуповину. Он не отводит глаз, смотрит попеременно то на нее, то в зеркало — роды и там и там. В те минуты, утверждает он, в той холодной комнате, когда он до боли в руке сжимал этот нож, определилось его политическое самосознание, причем, с такой силой…
— Да, политическое, сэр. Так он считает, так говорит. Причем, с такой силой, что это стало для него самым главным, первостепенным, ну, как бы призмой, через которую он смотрел отныне на мир. В те минуты, в тот час фэн де секл[42] двенадцатилетний подросток, худой и очкастый, превратился в политический индивидум, хомо политикус — это тоже его слова. Может быть, тогда и было заронено семя этой непостижимой и низкой измены, которой суждено было совершиться ровно через девятнадцать лет и послужить причиной вашего вызова сюда из Египта и нашего завтрашнего заседания суда. Но поглядите, небо уже прояснилось, я ведь уже говорил
— Иерусалим это не Глазго, дождю, каким бы страшным он ни казался, всегда есть предел, и я спрашиваю себя и, конечно же, вас, господин полковник, не слишком ли я утомляю вас своим рассказом. Моя матушка всегда предупреждала меня: не забывайся, то есть не забывай о других, тех кому приходится выслушивать твои излияния. А сейчас, когда этот превосходный виски так развязал мне язык…
— Да, сэр, я знаю, к чему я веду.
— Да, все концы сойдутся, обязательно.
— Всеми силами, сэр, всеми силами.
— Благодарю нас, сэр, вы очень любезны. На чем мы остановились? Да, значит, новый век, нарождающийся в Иерусалиме на глазах нашего обвиняемого. Простите?
— Младенец? Какой младенец?
— А, этот… Так что?
— А… сэр…
— Ну да, разумеется, сэр. На меня вдруг словно затмение нашло. Конечно, конечно. Что ж, я полагаю, что он в конце концов появился на свет. Тут я, к сожалению, не вдавался в подробности, для меня это была как бы метафора. Но, кажется, он таки перерезал пуповину и выпустил его на волю. Но остался ли ребенок в живых? Будем надеяться на лучшее.
— Конечно, сэр. Итак, семейство Мани вступило в двадцатый век еще не оправившись от постигшей его трагедии. Бабушке уже под восемьдесят, но она по-прежнему, что называется, в трезвом уме и твердой памяти, и внук относится к ней с самым глубоким почтением. Мать, тяжелая, рыхлая, быстро стареющая. Сестра, еще ребенок, лет десяти, но уже знает: главное, что от нее требуется, это как можно раньше выйти замуж. Средства к существованию очень скудны — только то, что они получают от сдачи комнат в доме, который когда-то был родильным. Мальчик, наш Иосиф Мани, обладает немалой свободой; этот политический индивидуум, хомо политикус, сам устанавливает себе цели, сам выбирает пути и средства их достижения. Прежде всего он решает изменить приоритеты в своем просвещении и во главу угла ставит изучение языков. Он до сих пор не может забыть, в каких лингвистических потемках блуждал, пытаясь понять, о чем его отец часами беседовал с гостями, привезенными им из Европы, а потому решил форсировать языки, как дивизия форсирует реку. Поскольку на то, что скажут мать или бабка, ему было, в сущности, наплевать, он, никому ничего не говоря, бросил еврейскую школу "Дореш Цион", куда определил его отец, и некоторое время шатался но Иерусалиму, пока не зашел в собор Успения Богородицы, при котором была школа, принадлежавшая шотландской церкви. В "Скул оф Байбл" штудировали Священное писание, но мальчика интересовало не оно, а английский язык, который он принялся со рвением изучать. Вскоре Иосиф говорил на нем вполне свободно с шотландским акцентом. Но английский был только началом. После обеда он отправлялся в Кфар-Шиллоах, где жил старый приятель его отца, шейх, который говорил с ним по-арабски и объяснял грамматику. По вечерам, несколько раз в неделю он присматривал за детьми в одной еврейской семье из Алжира и прислушивался к звучанию французской речи. Уже тогда проявилось одно из его редких качеств — с необыкновенной легкостью переходить из одной среды в другую, причем, заметьте, мальчик еще не достиг возраста бар-мицвы[43] это своего рода обряд причастия у евреев, как конфирмация у католиков или тухур у арабов. Во время этого обряда, который проходит в синагоге, мальчик должен читать стихи из Библии, нараспев, по определенным правилам, и рулады, которые приходится выводить, очень трудны, я испытал это в свое время на собственных голосовых связках в Большой синагоге в Манчестере. А когда нашему герою исполнилось тринадцать лет, он надумал вот что: явился в небольшую еврейскую общину выходцев из Венгрии — эти люди живут очень обособленно, одеваются во все черное, носят широкополые шляпы, отороченные мехом лисы… Вы, может быть, видели таких в восточных районах Лондона, господин полковник.
— Да, сэр, там они носят точно такие же наряды. Значит, явился он к ним и заявил: я сирота — так он любил представляться повсюду, будто и матери у него нет, — устройте мне бар-мицву. Они научили его читать Священное писание, как положено, нараспев, наготовили сладостей и питья. С этого началась связь между Иосифом Мани и этими ортодоксами, странная связь, продолжающаяся и по сей день. Я допрашивал этих людей часами, пытаясь доискаться, на чем она собственно держится, эта связь, ведь он не их племени и не мог бы стать одним из них, если бы даже захотел: он — сефард, а они — ашкеназы, к тому же он не соблюдает заповеди и в какой-то мере разделяет сионистские убеждения, то есть чужак чужаком. И все-таки они приняли его, он стал им нужен, ибо даже самое закрытое общество нуждается в посреднике, который действовал бы незаметно, в человеке для специальных поручений, орудующем во внешнем мире, причем желательно, чтобы он был не из их среды, иначе открывается лазейка и трудно уследить за утечкой информации. Им нужен был именно такой странный субъект, сомнительный сирота, от которого можно в любой момент отречься. И вот, он оказывает им разного рода услуги: пишет письма по-английски американским богатеям, ведет переговоры с арабами о купле-продаже домов, информирует о том, что пишут газеты, которые им читать запрещено; за все это он получает вознаграждение — деньгами или прочими благами. Они не требуют от него соблюдения заповедей, даже носить ермолку ему не обязательно. Так, с непокрытой головой и входил он, еще совсем мальчишка, к главе их общины, говорил с ним почтительно, но на равных. При этом он вовсе не считал себя атеистом — ходил в синагогу, но не в их, а в свою сефардскую, где манера распева молитв была ему привычнее и служба велась поживее; надевал красную феску, шел туда и молился, но категорически возражал против того, чтобы его причисляли к религиозным, потому что свобода, которую он почитал превыше всего, должна быть неограниченной.