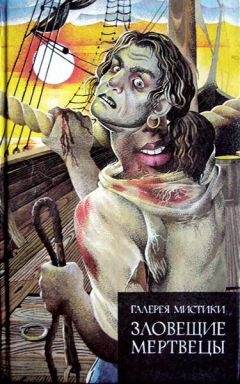Авраам Иехошуа - Господин Мани
— Благодарю вас, сэр, благодарю. Я поднялся по ступеням к этому иерусалимскому Тауэру, разбудил сержантов и дежурного офицера, показал приказ и попросил отныне никого к подсудимому без моего ведома не допускать. Меня проводили к камерам — повсюду следы турецкого владычества, как-никак четыреста лет; и там, в подвале, как бы в глубокой круглой яме сидит наш обвиняемый, как будто он тигр или ядовитая змея; на самом же деле он был похож скорее на коршуна в своем черном костюме. Он сидит на солдатской койке, читает при свече, лицо худое, суровое, морщинистое, читает вроде бы нехотя, книга как бы не перед ним, а чуть в стороне — Библия, которую дал ему пожилой офицер, начальник караула, евангелист, заботясь о его душе, словно считая его уже обреченным. Мани не отрывает глаз от книги, лицо его насуплено, как будто он читает наперекор самому себе (он не видит, что мы сверху рассматриваем его). И вдруг, словно он на сцене, книга летит в сторону, он задувает свечу, бросается на кровать и, свернувшись как зародыш в утробе матери, смыкает очи. Сначала я думал оставить его в покое, вернуться утром, а тем временем обмозговать это дело получше, подготовить план действий, но тут на меня словно снизошел пророческий дух: только если я не отступлюсь, возьмусь за дело этой же ночью, проведу его на одном дыхании, только тогда мне удастся добиться от него признания, потому что день ото дня он будет все больше и больше опутывать себя паутиной лжи. Я попросил, чтобы мне выделили комнату и поставили кофе, потом сел и прочел все, что было в деле, от корки до корки, все хорошенько обдумал, и в два часа ночи спустился к нему на дно ямы; внизу стоял страшный холод, я тронул его за плечо, потом стянул одеяло, и он раскрыл глаза — они были молодыми, большими и чистыми; было ясно, что если лицо его лепил кто-то один, то глазами снабдил его кто-то совсем другой; я заговариваю с ним, говорю быстро и мягко, видимо, вторгаясь в его сны, раскидываю тонкую сеть, пытаясь поймать в нее рыбку правды в темном омуте; он выглядит задуренным, очень усталым, подавленным; отвечая мне с тем же чистым шотландским выговором, он изо всех сил старается, чтобы рыбка не прошмыгнула, не высунула головы; опять что-то несет о любимой женщине, обитающей якобы в одной из деревень по ту сторону линии фронта, в горах Самарии. В его описании это не обычная арабская деревня, населенная темными крестьянами и их женами и дочерьми — босоногими и закутанными в черное, — а прямо-таки французский городок на берегу Луары, вроде тех, что описывал Мопассан: прекрасные пейзанки в вышитых блузках, млеющие от любви. И он все настаивает на своем, хотя мне уже очевидно, что он вообще не любитель женщин, а, я бы сказал, любитель "словесных игр". Еще не дорисовав образ своей возлюбленной, он уже начинает забывать его, и если бы я спросил о цвете ее глаз, то он бы поразился от одной мысли, что ее глаза обязательно должны быть какого-нибудь цвета и предполагается, что он обязан обратить на это внимание. Я категорически отказываюсь принимать всю эту ложь, а он все упрямится — такая женщина существует, и он ходит к ней тайком уже целый месяц, дурацкая история, которую он все развивает и развивает, как будто ложь держит его в силках, она управляет им, а не он ею. В конце концов он замолчал — было видно, как он дрожит от холода, — вернул любимую женщину туда, где она была порождена, — в свой мозг и там уничтожил. Тогда я повел его наверх, отогрел, напоил горячим чаем, представился и спросил, что мешает ему довериться мне; потом перевел разговор на его сынишку, который не видел отца уже три дня и очень скучает; я разбудил трех караульных, и в три часа ночи мы отправились к нему домой, в новый квартал Керем-Аврахам, за пределами Старого города; мы постучали, дверь нам открыла, причем мгновенно, пожилая женщина в чистом халате, весьма миловидная, казалось, она ждала нас; увидев его в наручниках, она стала всхлипывать, он дотронулся до нее, едва прикоснулся, очень мягко, пробормотал что-то на иврите, потом взбежал по лестнице и вернулся с ребенком на руках — года четыре, светленький, с золотистыми волосами, немного болезненный и, может быть, даже чуточку недоразвитый. Вы увидите его завтра, сэр, в зале суда, я дал разрешение привести его на первое заседание, поскольку уверен, что будь у него защитник, он обязательно использовал бы ребенка, чтобы пробудить милосердие…
— Сейчас, сэр.
— Да, сэр.
— Нет, сэр.
— Вы правы, сэр.
— К сути, сэр. Пока он целовал сына, я приказал обыскать дом, вывернуть все ящики, собрать все бумаги до единой. Мы сидели на кухне, молча, он, я и ребенок у него на руках, до тех пор, пока не затихли голоса солдат, — они собрали целый мешок бумаг и принесли его мне. Я велел им расположиться в гостиной, им подали чай, и там тоже постепенно все затихло; ночь уже становилась фиолетовой, в нескольких домах зажглись огни, люди прослышали о появлении солдат, но на улицу никто не выходил. Стояла тишина, глубокая, предрассветная. Женщина отнесла ребенка в кровать и сама пошла спать, мы сидели вдвоем, и я сказал ему: "Расскажите, кто вы такой. Начните с начала, если хотите". Силы у нас обоих были совсем на исходе, глаза слипались и удержать их открытыми могла только правда. Он говорил, а я слушал, в его броне образовалась брешь, сквозь которую капля по капле просочилась вся его история — в ту ночь я добился признания, полного, и все, что было потом, это только уточнение мелких деталей, проверка, доработка.
— Спасибо, сэр, с большим удовольствием.
— Да, как ни странно.
— Да, как ни странно. Он уроженец Иерусалима, здесь же родился и его отец, а дед приехал сюда в юном возрасте из Греции; на самом деле для еврея совсем не так естественно родиться в Палестине, как для англичанина — в Англии, уэльсца — в Уэльсе, шотландца — в Шотландии. Большинство здешних евреев живут тут недавно; коренных, так сказать, евреев очень и очень мало, в глазах остальных они выглядят куда значительнее, чем в собственных; такое преклонение, конечно, немного поднимает их дух, но только немного…
— Вы правы, сэр, на первый взгляд Иерусалим для евреев то же, что Лондон для англичан, но в Ист-Энде живет больше евреев, чем во всей Палестине, потому что англичанин не знает, что значит "носить Лондон в сердце своем", Лондон слишком тяжел и становится все тяжелее, евреи же умеют "носить Иерусалим в сердце" и кочевать с ним по миру, причем, чем дольше они носят Иерусалим в своем сердце, тем он становится легче…
— В некотором смысле, в некотором смысле. Я тоже, сэр, этого не отрицаю. Но дом мой в Манчестере, я тоскую по Лондону; в душе же есть уголок, где живет этот город как нечто отвлеченное, а не как реальность; вот сейчас я хожу по нему уже несколько месяцев, но между той отвлеченной идеей и ее, казалось бы, материальным воплощением нет никакой связи. И это чудесно.
— Благодарю вас, сэр. Итак, кто он и кто его предки? Они из Салоник, которые были тогда под властью турок, перекочевали сюда его дед и бабка, они были бездетны и верили, что если они доберутся до Иерусалима, там будут услышаны их молитвы. И они были услышаны, на свет появился его отец, названный Моше Хаимом, — единственный сын Тамар и Иосифа Мани. Иосиф умер еще до его рождения, и сирота был взращен матерью с любовью и бесконечной лаской; ребенок был так подкупающе миловиден, что английский консул, живший неподалеку, взял его к себе в дом; он был страстным почитателем Библии и, наверное, видел в этом ребенке воплощение, пусть в миниатюре, того первого Моше — пророка Моисея.[39] Он решил сделать маленького Моше англичанином, и когда тому исполнилось тринадцать лет — совершеннолетие по еврейскому закону, подарил ему британское гражданство; паспорт сохранился, он в папке, которая перед вами, господин полковник, это удивительный документ, написанный одним из тех величественных и прекрасных почерков, которые давно уже перевелись; с фотографии открыто и доверчиво смотрит на нас чудный мальчуган. На паспорте проставлен номер, и мы уже запросили Лондон — пусть там проверят, к какой категории он относится. Это все же неслыханно: чтобы британский консул по собственному усмотрению предоставил гражданство ребенку только на том основании, что тот симпатичен и мил. Как бы то ни было, мальчик был счастлив такому подарку, он повсюду таскал с собой паспорт, обернутый в цветную бумагу, и на улицах нищего замусоренного Иерусалима декламировал стихи Байрона и Шелли и пересказывал "Кентерберийские рассказы", ибо учился в англиканской школе — мать заботилась о том, чтобы он выучил английский. Когда он окончил школу, его послали в Бейрут изучать медицину в Американском университете; он пробыл там год и вернулся, не выдержав разлуки с матерью и с родным Иерусалимом. Его уговорили поехать опять, но учеба не шла, потому что каждые несколько месяцев он норовил сбежать в Иерусалим, брал с собой мать в Бейрут. Так он и учился через пень-колоду и только из уважения к консулу, который был ему как бы опекуном. Врачом он стал только в двадцать семь лет, к тому времени его уже надо было женить, по характеру он был закоренелым холостяком, но консул сказал: британцу нужно найти британку. Консул поискал и нашел британку, тоже сироту, на несколько лет старше, ее предок — английский еврей — оказался в конце восемнадцатого века, как ни странно, в армии Наполеона, попал в плен к туркам, французы забыли его выкупить, и он оставался на Востоке до тех пор, пока сам не купил себе свободу. В 1880 году они поженились, у них родилась девочка и умерла, потом еще одна и тоже умерла, потом мальчик, но и он умер; у родителей была несовместимость крови. В 1887 году на свет появился наш Мани, он тоже пытался тут же умереть, но ему не дали, за его жизнь боролись день и ночь и, хочешь-не хочешь, ему пришлось остаться в живых; через два года родилась еще и сестра — и тоже выжила. Опыт, приобретенный в борьбе за жизнь новорожденных, натолкнул Моше Мани на мысль открыть что-то вроде небольшого родильного дома. Он купил дом в квартале Керем-Аврахам — было это в начале девяностых годов, когда евреи начали селиться за стенами Старого города, нашел акушерку — неприветливую на вид шведку, монахиню из Мальме, которая приехала сюда вместе с другими паломниками, но, не найдя Бога, потеряла веру и обучилась на акушерку. Моше Мани поставил несколько коек, привез аппаратуру из Франции, самую современную, повесил в операционной огромное зеркало, чтобы роженица видела собственными глазами, как она рожает, и бросил клич: приходите, рожайте. Его первыми пациентками были большей частью женщины сомнительной репутации: просто гулящие, девушки, попавшие в беду, согрешившие монашки и паломницы, и шведка со сноровкой и неутомимостью принимала у всех у них роды, облегчая боли, как бы беря часть их на себя. Клиника приобрела известность, туда стали приходить и женщины из хороших семейств; Мани стал почтенным гражданином, его ценили за темперамент и обаяние, особенно женщины, он был повсюду принят, часто принимал гостей сам и любил выполнять общественные поручения. Он стал страстным приверженцем доктора Герцля[40] и когда начали проводиться сионистские конгрессы,[41] не раз делегировал себя на них. В больнице всем заправляла неизменная шведка, он же являлся в последнюю минуту, перед самыми родами, чтобы похлопать новорожденного по спине, услышать его крик, пошутить с роженицей, перерезать пуповину, извлечь плаценту и дать совет насчет имени. Мать всегда находилась при нем, с возрастом он чтил ее все больше и больше, жена же всегда оставалась в тени. Иосиф с сестренкой тоже шастали там между кроватями. В конце лета 1899 года отец побывал в Европе и привез с собой двух молодых людей — брата и сестру — из еврейского местечка неподалеку от Кракова. Иосиф Мани хорошо помнит их, помнит, что не всегда понимал их речь. Брат был врачом, сестра — красавицей. Мани-отец старался заинтересовать брата клиникой, а сестру — собой, потому что вдруг влюбился в нее без памяти, но так, как свойственно пожилым мужчинам, которым приглянулась молоденькая девушка: на ухаживание времени нет, а есть только на пожинание плодов. Но поскольку она никак не соглашалась, он все больше и больше увивался вокруг нее, и вскоре весь Иерусалим знал, что он влюблен, тем более, что Моше Мани в отличие от сына спешил сам раструбить о своих чувствах на всех перекрестках. Когда брат и сестра решили вернуться на родину, он всеми силами пытался удержать их, потом потащился за ними в Яффу, сел вместе с ними на корабль, доплыл до Бейрута и там следы его затерялись. Только спустя несколько недель стало известно, что он погиб в какой-то ужасной катастрофе на железнодорожном вокзале. Пока его опознали и доставили тело в Иерусалим, уже наступила осень. Было ему сорок восемь лет…