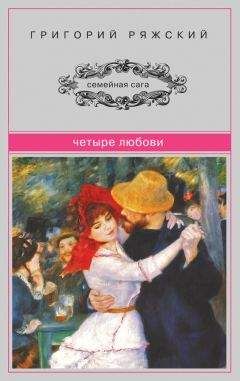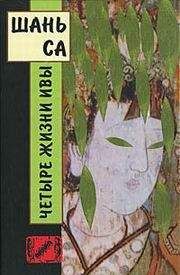Наталья Никишина - Женское счастье (сборник)
Мама далеко, ехать двое суток с пересадками. Про беременность Маруся ей писать не стала, еще сорвется, приедет. А дома самая работа — сено надо заготавливать, огород пропалывать. Да и скотину на кого мама оставит? На тетку Варю, что ли? Одни бабки в селе и остались. Район глухой, про фермеров слыхом не слыхивали, а колхоз почти развалился. Этот год даже не сеялись. Маруся маме помогает деньгами, там у них живые деньги ценятся. Мама на них даже крышу перекрыла, Мишу Глупенького нанимала… Он хоть и дурачок почти, но в три дня управился… Так что маму вызывать Маруся не стала. А больше у нее никого и нет. Ну, подруги есть, конечно. Только всем некогда, своих забот хватает. Забегают иногда. Правда, девочки с работы сказали, что на коляску и на приданое ребенку уже скинулись. Но до родов покупать не стали, примета плохая. Вообще-то, Маруся собиралась работать до самых родов. И с начальницей договорилась. Но вышло так, что врачиха с участка упекла ее на сохранение. Сказала ей, что «она — старая первородка» и что-то про давление. Ослушаться Маруся не решилась, мало ли… Но отчет сделала прямо в больнице, поэтому шефиня вроде и не рассердилась.
И вот уже две недели Мария валяется в этой палате. На улице солнышко, небо синее, а беременным выходить не разрешают. Хотя везде пишут, что «воздух прежде всего». А им не разрешают этим воздухом дышать, говорят — инфекции, простуды… Время тянется медленно-медленно… Хотя Маруся то книжку читает, то с Наташкой болтает. Наташка ей уже все рассказала и про мужа, и про всех родственников. Рассказы эти так же длинны и подробны, как роман Джейн Остин, который Маруся взяла с собой в больницу. И все было бы терпимо, если бы не расспросы про отца Марусиного ребенка. Инна Ивановна, лечащий врач Маруси, то и дело пристает к ней с душевным разговором: «Кто он? Будет ли помогать? Почему не навещает?» И как она, Маруся, думает потом жить одна с ребенком на руках? Маруся на эти расспросы отмалчивалась и улыбалась. Окружающие смотрели на нее как на идиотку. Понятно, что только идиотка в наше время решится рожать, да еще без мужа. Но Маруся об этом не думала. Как любая беременная женщина, она тихо молилась, чтобы с ребеночком все было хорошо, и даже боялась загадывать что-то на будущее: главное, чтобы он родился…
Даже про себя она не говорила «отец моего ребенка», может, потому что слово «отец» было для нее наполнено особым священным смыслом. Своего отца Маруся не помнила. Он погиб глупо, трагически, когда ей было всего два года. Но мама так истово повторяла «если бы отец был жив», что для девочки слово источало особый свет — свет исполнения желаний, свет неслучившихся радостей и небывалой защищенности… Поэтому Маруся, теперь уже взрослая и отягощенная печальным опытом женщина, не могла назвать отцом Гену, веселого, красивого и беззаботного. Гена вообще птица не ее полета. Таким, как он, место в столице. Шикарный мужик. Закрутил Марусю в два счета. Месяц покрутил и заскучал. Ну, не умеет она мужиков удерживать. Не понимает, как себя вести, чтоб они захотели взять ее замуж. Вроде всем она неплоха: внешность интересная, образование приличное, работа есть, даже жилье имеется… А вот чего-то в ней не хватает. Маруся и сама это чувствует. Ведь как только роман у нее наметится, она уже думает о том, как они будут расставаться. Сама часто говорила своим любовникам: «Скажи мне честно, когда я тебе надоем». Вот они и говорили честно. Бывший ее муж, с которым все вроде удачно складывалось и возникло даже какое-то дружество, сказал ей: «Понимаешь, Маша, в женщине тянет загадка, гордость… А ты сразу на мужика бочку меда выливаешь… Сначала сладко, а потом тошно». Между прочим, бывший этот поступил с ней, как говорили все знакомые, исключительно по-человечески. Он, уезжая на ПМЖ в Германию, оставил ей гостинку. При Марусиной дурости мог бы и ничего не оставлять. Она ему сразу же все документы подписала. Так она и жила, красивая, молодая женщина с русой косой и медовыми глазами. С популярной профессией экономиста. С романами Джейн Остин под подушкой. С поездками в село к маме во время отпусков. С паническим ужасом перед налоговой и тайной ненавистью к бухгалтерии. С первым абортом в двадцать лет. С писанием вполне приличных стихов. С ветреными любовниками. И дожила до двадцати семи лет, когда случилась эта беременность.
Маруся давно решила, что после того аборта детей у нее, наверное, не будет, и даже не предохранялась. Но вместо паники и растерянности, которую ей полагалось бы ощутить, она испытала только гордость и радость. Словно ее простили за давнюю вину, отпустили на волю. Уже в середине срока она увидела сон. В одной рубашке в ночной теплой реке она поймала рыбу. Рыба тускло светилась серебром и тяжело билась, прижатая к Марусиному животу. Маруся проснулась — это шевельнулось в ней дитя… Она счастливо улыбнулась ночной комнате и звукам города за окном.
Схватки начались внезапно, поздно вечером. Дежурила Инна, и сначала все шло нормально. Боль подкатывала и уходила. Но час шел за часом, а что-то не ладилось. Инна решила ускорить роды, Марусе спустили воды. Но ребенок никак не опускался ниже. Начали стимулировать. Маруся лежала в родилке, посередине зала. К обеим рукам были присоединены трубочки капельниц. Боль уже не уходила ни на секунду, падала гигантским каменным завалом, давила кости… Рядом принимали роды у других женщин. Маруся видела, как появляются на свет дети. И становилось все страшнее, даже невыносимая отупляющая боль не могла отвлечь ее от тревоги за ребенка… Когда меняли капельницу и освобождали руку, она хваталась ею за медный мамин образок, который с нее забыли снять в предродовой, и вслух молилась Богородице. Никто вокруг этому не удивлялся. И Марусе было все равно сейчас, что про нее подумают. Но, наверное, все думали только хорошее, потому что суровый медперсонал на Марусю не орал, а наоборот, ободряюще улыбался.
К утру врачи и медсестры посерьезнели и то и дело слушали сердце у плода. Потом Инна, почерневшая от усталости, сказала: «Кесарить. Смена придет — и срочно на операцию». Трубочки с Маруси сняли. Боль исчезла. И хотя она понимала, что это неправильно и нехорошо, тело ликовало, освободившись… Она сама отправилась в крохотную операционную. Рубашку, всю в пятнах крови, с нее сняли, и она вошла в помещение в чем мать родила. Там сидел человек. Мужчина. Маруся, ничего не соображая, глянула на него. Он засмеялся:
— Ого, да это просто Тициан!
Маруся, решив, что это он сказал про ее растрепанную и свалявшуюся косу, буркнула в ответ:
— Сам ты Веласкес.
Мужчина засмеялся еще громче и спросил, как ее зовут. Затем стал приговаривать:
— Маруся… Маруся — коса руса… Ну что, Маруська, будем анестезию делать? Я — твой личный, персональный анестезиолог. А зовут меня Иван Иванович.
Иван Иванович был, кажется, совсем молод, хотя черная борода мешала понять, сколько лет ему на самом деле. Когда он легко приподнял ее и уложил на стол, Марусе вдруг стало спокойно. Он поворачивал ее, проделывая что-то, комментировал, подшучивал. Она, как ни странно, отвечала тоже весело. Как будто они были старые знакомые, которые встретились в приятном и уютном месте. Пока Иван Иванович ожидал действия анестезии и все просил Марусю пошевелить пальцами на ногах, собралась операционная бригада. Среди них был еще один мужчина, кажется интерн, и женщина-хирург. Они тоже подбадривали Марусю, и ей стало совсем тепло и хорошо. Наверное, начал действовать какой-то наркотик… Она все говорила что-то, даже читала стихи, рассказывала врачам, какие они добрые и славные люди. Но в какой-то момент вдруг почуяла что-то, запаниковала и словно во сне, забыв, что рядом другие люди, попросила Ивана Ивановича:
— Не уходи, подержи руку на голове. Я боюсь.
— Не бойся ничего. Я рядом, Марусенька. — И его прохладная, тяжелая ладонь легла ей на лоб. В этот момент он был для нее отец, брат и возлюбленный… Он был для нее всеми мужчинами мира. Этот смешливый Иван Иванович был ей защитой и опорой. И она поняла, какой бывает нежность сильного. Потом он так и стоял рядом всю операцию, вместо сестры смачивал ей губы мокрой ваткой, бормотал успокаивающе. Он и сказал ей:
— Дочка. Маруся, у тебя дочка!
И краем глаза она увидела красненькое тельце, и услышала возмущенный младенческий крик… Потом с ней снова сделали что-то и она провалилась в черный сон.
В реанимационной палате Маруся провалялась неделю. Ей переливали кровь, через подключечник качали какие-то лекарства. Она вскидывалась, когда по коридору маленькой больницы провозили малышей. Все ей казалось, что где-то в детской плачет дочка. Дочку ей уже показывали, но кормить пока не разрешали. Ребенок, по мнению Маруси, был прелестный, совсем не похожий на других некрасивых новорожденных. Девочка моргала темными глазками и глядела Марусе прямо в душу. Без всяких слов они могли общаться. И Маруся уже скучала по ней, ей хотелось вести этот безмолвный разговор бесконечно.