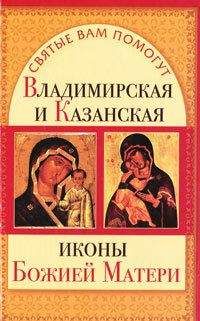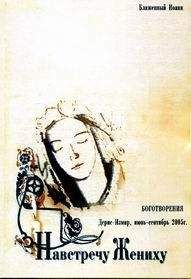Елена Крюкова - Серафим
– Что, отец Серафим, книжечки рассматриваете? – вкрадчиво пропел отец Григорий. – Приглядели что? Умница ведь диакон Адриан, нет сомненья!
– Да, умен, – жестко ответил я, не сводя глаз с толстого, румяного, гладкого, как у сытой девушки, лица отца Григория. – Да только так умен, как властям нашим хочется. И – ни больше, ни меньше.
– Что… что вы такое!.. – Рыжая борода отца Григорья затряслась напуганно и возмущенно. – Диакон Адриан… это ведь… это – мировая величина!.. А вы – так его… припечатать… Видите, сколько прекрасных книг отец написал…
– Вижу. – Зачем я был так резок! – Лучше бы он их не писал.
Вокруг нас уже собрались зеваки. Нас слушали, и на нас глядели.
– Вам… не нравится?!..
– Это не книги, – сказал я громко. – Это воплощенная в буквах и словах ненависть. А ненависть – не книги. Книги – это любовь и пониманье.
И я повернулся. И пошел прочь из этого фойе, из этого зала, из бывшей Высшей партийной школы, потому что мне не хотелось больше окунать лицо и руки в ненависть, в яд и черноту, и в них купаться.
В тот вечер я литургисал, вместо отца Максима, в Карповской церкви. Когда я поднял руки, стоя перед Царскими Вратами, и пропел: «Слава Тебе, показавшему нам Свет!» – мороз легкими когтистыми лапами побежал у меня по спине, и я заплакал внутри себя, и попросил прощенья у диакона Адриана, что плохо о нем подумал. У каждого есть свобода покаяться. У каждого – есть дорога к любви. Ненавидь! Но когда-нибудь – полюби. И звезды зажгутся над твоей головой.
Где угодно зажгутся: в Индии… в Африке… в нищей России…
Вот отец Иоанн Осовелый. Смешная у него фамилья. Я познакомился с ним, когда в Троице-Сергиеву Лавру ездил. И он тоже туда приехал; нас жизнь свела на Всенощном бдении в Троицком Лаврском соборе. Он священником стал почти как я – внезапно и чудесно. Ему так суждено было. Он актером был, в фильмах снимался, москвич, деньги платили немаленькие, преуспевал, хорошо и счастливо женился, детки пошли – трое родилось, а когда жена четвертым беременна была, полетел отец Иоанн, актер Иван Осовелый еще тогда, в хлебный город Ташкент! Хотел беременной жене дынь чарджоуских, сладких, прямо с их дынной родины привезти – женка ничего не ела-не пила, рвало ее без перерыва. Ну и вот, оказался он в самолете соседом ташкентского священника одного. Пока летели – о том, о сем болтали. А прилетели – Иван не на рынок за дынями поперся, а к священнику тому в храм! Службу отстоял. Как впервые отстоял. Очаровался. Да молчит в тряпочку. Священник на дыни его пригласил. Не домой – на берег арыка. Солнце жарит! Дыни они лопают! Сладчайшие… И священник тот Ивану дыню бросает: «Лови!» Иван поймал. «Вот так я тебе судьбу твою брошу – поймаешь?» – «Ну, брось, поймаю», – Иван отвечает.
И священник бросил ему золотую дыню судьбы.
Рукоположил его в сан, там, в Ташкенте. Иван в Москву уже приехал – отцом Иоанном. Жена беременная – в обморок: стоит на пороге в рясе, счастливый-счастливый! И – чемодан полный дынь. Дети верещат: папа, папа, это что на тебе за юбка?! Все, он смеется, отпрыгался я, я, дети, теперь – иерей… Жена плачет: «Игрушки это все! Игра! Актерство твое проклятое…»
Никакое не актерство оказалось. Патриархия храм отцу Иоанну подыскала в Подмосковье. Я у него там сам был. В селе Саввино. Белый храм, лебедь, в ржавых полях плывет. Белый корабль… Сначала он на службы из Москвы мотался, в электричках да автобусах; потом – семью в село перевез. Жена пятого родила, мальчика Савву, в честь селенья назвали.
А отец-то Иоанн, между прочим, мечом владеет. Японским. Самурайским. Учился в юности восточным единоборствам. Меч мне показывал. Такой красавец меч, длинный, ковка крепчайшая… блестит ослепительно, лучше алмаза. Тяжеленный. Не приподнять. Отец Иоанн уже завещанье написал. Всем пятерым детям – все имущество свое распределил. Все драгоценности свои. Шкатулку с настоящими австралийскими опалами – Светочке, старшей. Коллекцию тропических бабочек – Дашеньке. Немецкую фисгармонию, двести лет ей, – Леониду, он музыкант. Свой портрет живописный, во весь рост – Льву, он художником быть мечтает. «Меч-то кому?» – спрашиваю. Улыбается: младшему, Саввушке, кому ж еще. Только он один сможет его поднять. Он, говорит, его уже поднимал, а ему три годика всего. И подмигивает мне…
Вот выступает из мрака лицо. Старое, изрезанное глубокими, как коричневые раны, многими морщинами лицо, и золотом червонным горит, пылает во мраке.
Лицо старика всегда богатое. Слишком много несет, таит в трюмах своих, как перегруженный добром, старый корабль. И знает капитан: буря начнется – корабль не выстоит. Дно темное рядом. Но пока еще светятся огни святого Эльма на мачтах. Золотая серьга золотым попугайским когтем светится в мочке старого уха. Ухо все слышит. Ухо слышит то, что услышать нельзя. Самые тонкие, паутинные звуки. Тайну. Ход времен. Веер морщин вокруг впалого рта то сжимается, то разжимается. Зубов уже нет. Вам недосуг их вставить. Зачем? Вы опоздаете на службу. Важны не зубы; важно вино Причастия, сладкое, святое вино, вишневый, кровавый кагор. Евхаристия примиряет всех: католиков и православных, протестантов и униатов, баптистов и молокан. Христос был один, а вы все что делаете? «А мы, Господи, мы все делим Тебя, и никак не можем разрезать Тебя на куски…»
Золотая лжица в старой, дрожащей руке. Святые Дары в ней, и она дрожит около жадно раскрытого, грешного рта. Всунуть скорей в живую черную яму. Помолиться за душу, приявшую Бога. Бог один, и Тайная Его Вечеря – одна. Старый рот так молится на Проскомидии: за приходящих в Мiр, за живущих в Мiре, за уходящих из Мiра – с миром.
Старый отец Александр, зачем вас убили? Я бы за вами подол ризы вашей носил; рясу бы вашу – синим хозяйственным мылом – в тазу стирал. Я так любил вас, полюбил сразу, хоть виделись мы всего ничего, минуту одну, в переполненном вашей паствой храме московском; и минута эта одна была – Причастие из рук ваших; а потом зато я книги ваши читал, все выучил наизусть. Зачем вы убить себя дали? Вы ведь знали о том, что – убьют. На последней Литургии своей что вы сказали, длинно, как дитя после плача, вздохнув? Те, кто ближе к амвону стоял, услышали. «Время близко…» Вы знали – за вами идут. И придут.
Вас убили так жестоко – я думал, так только сыновей несчастной Риццы зверски убивали, только Юдифь так безжалостно, одним махом меча, убила Олоферна, только Давид так побивал филистимлян ослиною челюстью. Я все слышу ваши тогда тяжелые, а теперь уже – тайные, невесомые слова: «Старость – это время собирать камни. Я уже собрал свои камни. Теперь кто-то меня, как камень, подберет с дороги… соберет в подол, положит в корзину…»
За что, плакал я, когда ваш друг, отец Георгий, настоятель столичного храма Космы и Дамиана, прислал мне страшное, горькое как полынь письмо, за что?!
И тихий невесомый, волной от колокольного звона плывущий голос мне все говорил, все пел медленно, ясно:
«ЗА ТО, ЧТО Я ЖИЛ НА ЗЕМЛЕ».
Вот новый гудит колокол-голос из тьмы, сперва еле слышный, потом приближается, явственней становится, и я различаю веселую речь:
«Здравствуйте, дорогой отец Серафим! Как живете-можете? Бог помощь вам! А я о вас только что думал, и вот – вы – на пороге… Да ведь это промысел Божий!..»
Все в мире есть промысел Божий. Слишком поздно мы понимаем это.
Он встречает меня на пороге – в черной, подпоясанной простой веревкой, рясе, а ряса заляпана свежей чешуей, и руки воздеты, и нож в правой руке, и борода серебряная, спутанная, крутит жесткие кольца, смеется и вьется, в тесной избенке – как на ветру, на просторе, а на затылке – черная тесная шапочка, скуфья малюсенькая, штопаная, а глаза озорные, искры кидают, в меня швыряют! Не человек – печь, полная горящих, стреляющих дров!
«Здравствуйте, отец Симеон!..»
«Долгонько добирались?..»
«Долго, да ведь добрался же!..»
Отец Симеон – старой веры. Мне, никонианцу, негоже дружить со старовером. Ведь они, староверы, так наши епископы нас, иереев, учат, не верят в наших дивных святых: в Серафима Саровского, в Игнатия Брянчанинова, в Иоанна Кронштадтского, во святых наших Царственных мучеников – расстрелянных последних Царей… Так и меня отец Максим и иные иереи учили; да только я, грешный, ничего не понимая, прилепился вот сердцем к отцу Симеону, ибо отец Симеон – чудо из чудес, чудо, ни за что подаренное мне Господом! Он весь налит радостью, как живой сосуд – сладким Господа вином. Он сам – постоянное, ежеминутное живое Причастие, и его мысли, его слов, его смеха, его печальных раздумий бесконечно хочется причащаться, хочется внимать ему, трогать его за корявую, к крестьянскому труду приученную широкую, как лопата, руку, глядеть на летящее вперед, открытое лицо его, взошедшее смуглым, загорелым пирогом!
Отец Симеон живет в крошечной деревеньке под Ногинском. У него там маленький староверский приход. Он сам протирает староверские, чернолаковые, с пятнами золотого тусклого нежного света, играющие серебряными искрами иконы промасленной тряпочкой по утрам, еще до ранней Литургии. Я был у него зимой, перед Рождеством, вырвался из Василя на три дня, Христа ради попросил воротынского иерея, отца Андрея, послужить в храме за меня. Симеон обрадовался мне сверх меры. Глядел на меня так, будто б я был бессмертный, диковинный царский павлин! Когда я вошел к нему в избу – он рыбу чистил.
«Только поймали рыбаки… в проруби… в Черном озере… глядите, отец Серафим, какие окуни!.. И карп даже попался!.. Будет, будет у нас с вами уха…»
Мы вместе варили уху и старательно крошили туда лук, морковку и картошку.
Рыба, рыба, еда человечья…
«Как Исус рыбу любил», – сказал вдруг Симеон хрипло, торжественно.
«Исус» – сказал без двойного «и», с одним, по-староверски…
Рыба пахла озером, тиной, сугробом, хвоей, звездным серебром…
В серебряных окладах тихими лесными рыбами плыли мрачные иконы, взблескивая скорбными очами, играя, как плавниками, нежными руками, и складки древних багряниц и темно-изумрудных плащей шевелились, будто толща озерной воды расходилась кругами…
Господи, отец Симеон, как же вы на меня глядели! Не было преград между нами. Ни безумный белобородый старик Аввакум, ни заносчивый, жестокий Никон не стучались в сердца наши. Вы живете в доме со ставнями, но никогда ставни не закрываете. Вы говорите и бандитам, и звездам: входите. Вы говорите: «входите» – другу и врагу. Мы с вами читаем одни молитвы. Мы с вами поем один Псалтырь. Мы с вами уповаем на Бога Единого. Кто же и когда разделил нас? Кто делит нас теперь?
Нож в чешуе. Доска в чешуе. Варится уха из карпа и окуньков. Симеон кидает в кастрюлю лавровый лист и три черные горошины перца. «Во имя Отца…» Одна горошина. «Сына…» Другая. «И Святаго Духа…» Третья горошина летит в кипящую уху, и я гляжу, как становится белым, жемчужным, сумасшедшим глаз мертвого карпа в бурлящем кипятке. И глядят на нас с бревенчатых, мрачных стен черные иконы, и ходят во тьме их огненные, дикие, древние вспышки: это сполохи огня горящих срубов, это далекие смертные крики в тех срубах сожженных. Кости их вопиют. Факел лисьим хвостом вздымается к железным, алым и белым звездам. Старое озеро помнит самосожженье. Детские страшные визги. Во имя Отца… и Сына…
«Вначале бе Огнь, – говорит Симеон и зачерпывает ложкой уху, пробуя, солена ли. – Преподобный Серафим стоял на коленях во срубе своем, молился, заснул, и горящая свеча подпалила край Библии, на столе лежащей… Так он умер, и Богородица пришла обнять его горящую благодатную душу. Да огнь его не тронул. Огнь знал, что Серафим его любил. Разве убивают, любя?»
Симеон зажег свечи, расставил их по краю стола. Рыба дымится на тарелках. Мелко нарезанный лук остро, слезно пахнет в алюминьевой миске. Круг ржаного разрезан на крупные куски острым тесаком. «Ешь, дорогой, любимый друг. Рыба… в пост ее и монахи вкушают. А нынче еще не пост. На неделе начнется Филиппов-то пост, Рождественский. Да и тот – не строгий. Это в Великий уж – в Благовещенье единое будем рыбкой-то лакомиться… Скажи, как ты там, в Василе?.. Пообвык?.. Притерся?.. Как роспись твоя во храме… движется?.. Смелый ты, я погляжу… ведь не богомаз ты, нигде не учился…»
В стопочках горит яркими турмалинами домашняя наливка. Пахнет давленой вишней, сладко, как щеками девушки. «Настя», – думаю я. Кровь бросается мне в голову.
«Малюю потихоньку. Рад тебя видеть. Выпьем, отец Симеон?»
Мы поднимаем горящие красным огнем стопки. С черной иконы вверху, над нашими головами, мне глазами озерными блестит, улыбается северная Богородица Хахульская, и каменья на Ея короне горят, как сколы синего и зеленого льда, как ягодно-сладкое, серебряно-рыбье Северное Сиянье.
И так ходят по ночам вокруг меня хороводом мои священники, мои иереи, слуги Господа моего, и я, взявшись за руки их, хожу хороводом вместе с ними.
Вокруг чего мы хороводом ходим?
Вокруг Распятья Господнего ходим?
Вокруг единой живой души, что взыскует спасенья?
Вокруг ямины разверстой, смерти нашей, а яму еще не вырыли, и о смерти мы молимся отчаянно и рыдально, повторяя Спасителя слова: отведи от меня чашу сию! – но она уже у губ, и испить мы должны…
А я бы так хотел хороводом ходить, вокруг елки нарядной, Рождественской, с Настей моей, и с детьми нашими, еще нерожденными: с мальчиком… и еще с мальчиком… с девочкой… и еще с девочкой…
У кого венчаться мы будем?..
У отца Григорья?
У отца Иоанна?
У отца Симеона?..
Златые венцы кто над нами и в каком храме будет держать?..
Нельзя нам венчаться; нельзя; нельзя. Невозможно.
Священнику после хиротонии венчаться нельзя никак.
…вот церковь мою всю распишу – здесь и обвенчаемся.
РАССКАЗ О ЖИЗНИ: ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ ПОЛЯНСКИЙ
Моя душа летает под небесами. Моя душа говорит по-польски. Она говорит своей любви: коханя, коханя, цо ты хцешь, коханя?.. вшистко можно зробичь для чебе.
Я помню старинные, очень узкие, как кишки, черные улицы. Я помню выстрелы, и дым на взорванных кирпичах, и женщина плачет, согнулась в три погибели, а перед ней мужик в военной форме, и женщина тянет к солдату руку, хлеба, наверное, просит. Кобета… една. А солдат толкает женщину кулаком в лоб и кричит весело, беззлобно, по-русски: пошла отсюда, курва! Нет у меня для тебя ничего! Ниц нема! Ниц! Ниц!
А потом ничего не помню. Только тишину помню.
Тишину – и темноту.
Нас долго везли на поезде, и вагон был забит досками, в вагоне стояла темь, и ни лучика не пробивало ее водяную, смрадную толщу. Я все время хотел пить. Даже есть уже не хотел; а только пить. На станциях нас выпускали из вагона – справить нужду. Но все равно все ходили под себя прямо в вагоне, особенно больные, кто лежал на сене, на свернутой в комки и шерстяные рулеты одежке, и дети не дотерпливали до станции, все равно обделывались прямо на шаткий деревянный пол, и вонь стояла – всех святых выноси. И я глотал ртом эту вонь, и худо мне было. И рвало меня прямо на пол вагона, а рвать было нечем, пусто было горькое нутро, и скудно, зеленым червем, лезла из меня, из кишок и глотки, жгучая желчь.
Поезд встал однажды и так стоял, будто умер. И всех нас выгнали на перрон. Ревела гудками паровозов ночь, и хлестал, колотил по щекам и плечам снег с дождем. Что это было? Зима, весна? Я стоял, опустив голову, и глядел на носки своих ботинок. Высокий, очень длинный, выше всех нас ростом, тощий человек подошел к нам широкими, злыми шагами и как заорал: женщины – налево! Мужчины – направо! Детям – остаться на месте! Мы сделали, как человек хотел. Я стал дрожать. Перед глазами все было красно и серо. Я вдруг почувствовал себя змеей. Упал на обледенелый перрон и пополз. Я думал, я сошел с ума. И услышал высоко над собой, как с неба: “Эх, гляньте! Мальчонка-то от слабости свалился! Эй, у кого хоть кусок хлеба есть! Дайте сюда!”
И мне дали хлеб, и я ел его.
А потом помню большой и мрачный дом, тяжелый и толстый, со страшной, как забрало рыцарское, крышей и мощными, слоновьими стенами и кривыми толстыми колоннами. Нас, детей с поезда, в кузове черного грузовика привезли туда. Я говорил по-польски, и меня никто не понимал. Смеялись, тыкали мне под ребра пальцами, и я ойкал и сгибался, и хватался за бока, и плакал – так больно было. Большие тетки в серых платьях и белых фартуках наливали нам плохого, вонючего супа в железные миски, но в супе плавал жалкий кусок мяса, и я трясся от восторга и благодарности. И худые пальцы мои тряслись. Я по-польски благодарил Бога за то, что я жив: Езус Кристус, Ойче наш, ктурись ест в небе, свенць ще име Твое, ищийдзь крулевство Твое, бондзь воля Твоя, яко в небе, так и на земе! Хлеба нашего повшеднего дай нам дзисяй, и одпусць нам наше вины, яко и мы одпущамы нашим виновайцом… и не водзь нас на покушенье, але нас збав оде злего. Амен! И когда я говорил шепотом: амен! – будто горячая рука мамы обжигала мой затылок. “Матка, матка муя”, – шептал я и опять плакал. Но слезы эти были легкие, как ветер. Жизнь шла, и я забывал маму. Забывал свой город. Забывал свою родную речь. Только молитву одну эту и помнил.
…бондзь воля Твоя… яко в небе, так и на земе…
Я ел, опуская нос и все лицо свое в железную миску. Я был очень послушным. Тихим совсем. Неслышным. А потом подрос и стал красивым, веселым и дерзким парнем. Громким я стал! И нравился девчонкам. И воспитатели и учителя ругались на меня: я был слишком вольный, неуставной. Я тек и утекал у них у всех сквозь пальцы!
Дом, мой детский дом… Это был мой родной дом. Из одной страны меня привезли в другую, и так получилось. Счастье, что я остался жить; многие умерли. А я вот жил. Да только жил я недолго.
Быстро меня Бог к себе взял. Своего щенка. Щеночка.
По-польски счастье – щеншчье. Щенячье такое слово, слишком нежное. И я был, наверное, слишком нежным для этого железного, кирпичного мира.
Но, Буг муй Езус Кристус, благодарю Тебя за то, что Ты дал мне вырасти большим, и узнать сладость любви, и сладость женской, девьей пички, ну, это такое нехорошее по-польски слово, по-русски тоже такое есть, а звучит очень нежно, правда? И зачем только все эти слова, которыми называют мужское и женское тело, сделали гадкими, сделали руганью? За то благодарю, что Ты дал мне жениться, и дал родить детей моих на земле, и детей у меня родилось много, они все рождались один за другим, погодки, сыпались из брюха жены, как ягодки, а жену мою звали Матрена, это по-польски Матрона, и она живенько мне младенцев настряпала, и ловкая девушка была, и красавица, пенькна паненка, и ловко с детьми управлялась, – одно плохо было в ней: попивала. И я повинен бычь… должен был все время стеречь, охранять ее, Матрону мою, от злого и сладкого, любимого зелья!
А сам я пьянку не любил. Не любил, когда темнеет и кружится перед глазами. Я любил хорошо поесть, что да, то да, и сам мог вкусно и хорошо еду приготовить. Матрона меня хвалила: ты как повар, Валя, может, поваром в заводскую столовку работать пойдешь? А я хотел быть художником. Подряжался на заводе плакаты малевать. “МИРУ – МИР!” Или такой: “АВТОЗАВОД, ТЫ СМОТРИШЬ ВПЕРЕД!” Любил запах краски. Карандашами портрет Матроны однажды нацарапал. Она сидела на кухне, курила сигаретку – от меня научилась, – откусывала от блинчика, качалась взад-вперед на табурете! Блинчик в варенье окунала. И рюмочка перед ней стояла, с красным винцом. Все интеллигентно. Я тайком рисовал. Альбом на коленях под столом держал. Она заметила все равно. Что ты там копошишься, спрашивает? Я говорю: да ничего. А она: покажи! Я показал. Губы кусаю. А она как засмеется! Ох, говорит, и непохожа! Я закурил и выкурил пачку сигарет: одну за другой, одну за другой курил. А она потом со спины ко мне подошла. Обняла меня за шею. Шепчет в ухо: ну, не злись, чудик, похожа, похожа…
Этот черный русский город, эти черные трубы, упертые в небо! Воткнутые в небо, как черные пальцы! Я привык. Я тут ко всему привык. Тут родились и росли мои детки. Они все меня нашли, и щенята мои, и сучка моя. А я себя не находил. Будто бы себя я давно потерял, и все никак не найду. Будто бы я там, в том товарняке вонючем, навек остался. Из труб валит черный дым, и я иду на работу. Это Автозавод, такой рабочий район. Люди утренние, мрачные, глядят узкими со сна глазами сквозь морозную сизую дымку. Щеки щиплет и нос. Надо щеку варежкой крепко, больно тереть, не то отморозишь. Я работать иду. Я хорошо делаю любую черную работу. Все что хочешь сделаю. Постараюсь. Но это не я. Я потерялся. Я остался там, далеко. Где? Я и сам не знаю. Дымами заволокло.
И поэтому я лежу на диване ночами, лежу вверх лицом, не сплю, и плачу, плачу без слез. А потом иду в туалет и много, жадно курю. Будто бы сейчас, вот сейчас умру, и уже никогда всласть не накурюсь.
Я хочу жить другой жизнью. А живу черной, собачьей. И детки мои щенята. И женка моя Матрешка. И Автозавод дымит в нос и уши. И плохо мне, страшно мне.
А теперь я на небе, и тут мне хорошо. Вспаняле. Езус Кристус и ангелы Его сами готовят мне нежные яства. Да я сыт и без еды. Счастье тут мне! Щеншчье…
А про то, как умер я, никому не скажу. Страшно я умер; плохо. Зачем на небе об этом вспоминать? Зачем Езуса Кристуса гневить? То мое горе. Матрона одна знает о том. Она одна молится за меня. А я тут один за нее молюсь. Усопшие ведь молятся за живых. А живые об этом не все знают. Матка Боска Ченстоховска!.. помоги моей бедной женке, жоне коханей, едной кобете. Сделай так, чтобы на столе у них, коханых моих, всегда была еда. И питье. Чтобы они никогда в пыль, на дорогу, на черный лед от голода на живот не упали. Чтобы не качалась от голода и ужаса земля под ними, как дощатый пол скотьего вагона, смрадного товарняка. Здроваць, Марийо, ласки пелна, Пан з Тобон, блогославьонащь Ты мендзы невястами и блогославьоны овоць живота Твоего, Езус. Щвента Марийо, Матко Божа, мудл ще за нами гжешными тераз и в годзинен щмерчи нашей. Амен.
ПЫЛЬ НА ДОРОГЕ. МАТЬ ИУЛИАНИЯ
Я все-таки ее, вертихвостку-та энту, заловила. Ух, спымала я ее! Не ждала она, конешно… не ждала. Думала: бессловесна Иулианья тварь, безропотна! Ничо не сбрехнет! Ни словца поперек не сронит! Думала, гусеница: ничо не знаю я про ихню с батюшкой страстишку… Да не-е-е-ет, ежли уж весь Василь все до косточки прознал – то и я, грешна Иулианья, тем боле знаю-ведаю!
Ух-х-х-х, капустна гусеница… Лист-то святой, чистый жрет…
Жрет – и не покаецца вить… Како там каяцца… До покаянья-ти ей – семь верст киселя хлебать… Не дано никогды ей, гадючке, будит покаяцца. Никогды не дано.
Ибо так душонка устрояецца у людей: либо людишки праведны, либо – грешны со всех сторон. Вот и весь сказ.
А тут, конешно, и речи иной нет! – она кругом виновата, ящерка. Прыткая дык. Юрка… Р-р-раз – и обмоталася вкруг батюшкина запястья… А опосля и в крынку вползла, лягушатина… Известно зачем. Молочко холодно – выпить… И сметанку – сибе пригрести…
А опосля… А што – опосля? Известно дело, што – опосля.
Забрюхатет от няво – а замуж-та за другова выскочит!
И я ее, конешно, клячу обоссанну, подстерегла. Она по улице шлепала, жопой виляла. А я – как раз с магазина ташшилась, с сумкими, еды нам всем закупила, и людям и зверям. Я и за ней, наддала. Запыхалася. Догнала сучку. Хлесь ей по плечу рукой! Она стала как вкопанна. Спужалася. Глядит на миня: зырк, зырк. Убечь хочит, чую!
– Знашь ты, кошка, чье мясо съела, – грю я ей.