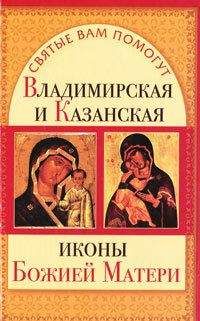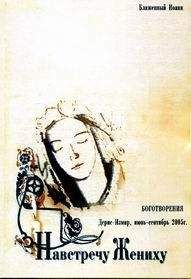Елена Крюкова - Серафим
– Ты поймал! А я – выпустила…
– Это я поймал, и я выпускаю тебя, – тихо скажу я над ее бьющейся на груди у меня в плаче золотой головой.
Я помогал старику, деду Василию Померанцеву, ветерану войны, по хозяйству, иной раз заходил к нему на Юбилейную улицу, он там один в низеньком домике жил. Притаскивал из колонки пару ведер воды; дров наколю, если дед машину дров закажет. Дед Василий рад мне бывал. Я появлюсь – он тут же захлопочет, самовар ставит, варенье из шкафа тянет. Варенье ему Однозубая Валя варила. Хорошее варенье, и смешанное, с фантазией: то терновник с яблоками вместе сварит, то – вишню с черной смородиной. Необычно, а вкусно. Я галет в сельмаге куплю. Сидим, чаек попиваем.
Вот сидим так однажды, горячий чай прихлебываем, вареньем заедаем, вроде бы крыжовниковое тогда Валя сварила, с добавкой смородинового листа, и дед Василий и говорит:
– Слышь, отец Серафим! Ты ж на все руки, а! А – охотисся ты? А – рыбалишь?
Я кивнул смущенно.
– Рыбалю, дед.
– Рыбалишь, это хорошо-о-о-о! Хорошо-о-о-о! Исус-то наш Христос тож ведь рыбалил! – и хитро так подмигнул мне, а оба глаза у него вроде как в бельмах были, такой сизой плевой подернутые; дед сказал мне потом – это глаукома. – И че с рыбой-то делашь? Вялишь али че?
Я смутился еще больше.
– Да ничего… Приношу домой, кошкам отдаю…
– Кошка-а-а-ам?! – Дед Василий заклокотал, заквохтал наседкой. – Э-хе-хе-хе-хак! Э-хе-хе-хе-хак! Куды ж это годитси! Надо хорошую рыбу спымать… добрую. Я тя научу, отец! Спасибо скажешь!
Я осторожно подул на горячий чай. Щеки мои пылали.
– Я уж и сейчас спасибо вам говорю…
– Подожди, рано!
В чем заключалась учеба деда Василия, и сказать точно не могу. Ну да, он рассказывал мне о насадках и наживках, о толщине лесок, о разных, неведомых мне рыболовных снастях. Объяснял, как выгребать на стрежень – и ставить сеть на язя, на сома, на судака. Как вытянуть щуку, и не на хищный спиннинг с блесной, а простой удочкой, с червем на крючке. Я все запоминал, но не в этом было дело.
Дед, страстный рыбак, заражал меня рыбалкой, и я понимал: не излечусь.
Мне во сне стали сниться рыбы.
Стала сниться моя, Золотая.
В коричневых руках деда Василия мелькал и поблескивал тройной крючок, он трогал большим заскорузлым пальцем острия, и я слушал его торопливое хрипенье, совсем не про рыбалку:
– Я, батюшка, во время-то войны… в Брестской крепости был! – Дед выговаривал: в Брецкой. – Да, да… там и очутился… Ох и огня вставало вокруг нас… ох и поколотили тогда нас немцы… Но и мы их – поколотили тож… Я-то так мыслил – нет, не выживу… Ан нет, вот вишь, выжил… И че?.. На фига попу гармонь… мне жизня эта?.. Сколь чижелого видал я – языком не выболтать… Ежли тебе исповедаться буду, отец, до полночи слухать меня будешь… Эх ты, я про попа-то с гармонью сбрехнул, ты уж прости, отец… это я не нарошно, обидеть тебя – не хотел… Немцы огнем нас так и поливали!.. А я… молоденькай… отстреливался как бешенай… зубы зажму да стреляю, стреляю… Мыслю так: не-е-ет, не сдюжить нам, всех нас тут фрицы сжарят… как петухов в печке… Господу на обед!.. Или, может, дьяволу… э-хе-хехак!.. Кха, кха, кха… кхак…
Долго, затяжливо кашлял дед Василий, будто легкие старые хотел выхаркнуть из груди. Я глядел на его сизые бельма. Он еще видел, но с каждым днем все хуже и хуже.
Это он сказал мне про Золотую Рыбу.
Я запомнил его рассказ. Над самоваром вился пар. Коряво гнутые-ломаные, как ржавые железки, руки деда Василия лежали спокойно на белой скатерти. Впалые, земляные губы его медленно шевелились, выпускали из предзимья, из старой пещеры весеннюю песню.
– Она живет на самом дне. Ее – не тронь. Не попадецца никому. Ни в сеть не зайдет; ни на наживку, самую расхорошую, не клюнет. Умная дак. Царица… А живет Она в Волге уж две тыщи лет. Потому как Рыба эта – царская родня той Рыбе, што Сам Христос спымал когды-то со Петром и Андреем, да с Апостолом Иваном, во святом ихнем море Галилейском!.. А как этот рыбий род пошел?.. А вот так. Слухай. Чистая водица в море том, Исусовом, плескалась; сапфирная. Прозрачная толщь, все насквозь просвечиват. Ну, они-то на лодье плыли, плыли… на волну пялилися… и увидали. В глубине Рыбища идет! Медленно… плавно… вроде как лодья золотая тож, да только – подводная… Исус и велел рыбакам бросить весла. Лодья-то стала. На волнах качацца. Исус и говорит: здесь закидайте сеть, да не спешите! Не тяните сразу-то!.. обождитя, надо уметь ждать… В жизни – всегды – надо уметь ждать… Ну вот и ждут. Ждут-пождут… И тут… из глуби-то… как плеснуло!.. Как сверкнуло!.. Молонья навроде. Апостолы-то к глазам ладони поднесли. Прижмурилися… А Христос смеецца, их учит так: вы, мол, што спужалися?!.. негоже пужацца, это Она, Она!.. Привалило счастье нам!.. И Сам за угол-то сети взялся… и ну тянуть! Апостолы устыдилися, вместе с Им тащат. Чижало! Тянут-потянут… И вот… через борт сеть-то перевалили… а там… Она!.. Играт… бьецца… Золотом от Нее – во все стороны – брызгат… Апостолы ахнули: экое диво! А Христос им: че ахаете, как бабы, из сети Рыбищу вынайте!.. Вынули. Красоту да чажесть, золото тако в руках страшно держать!.. руки им – обжигат… Да не руки: сердца… А тут буря на море поднялася. Волны ветер крутит! Лодью мотат, вот-вот потонет! Петр и кричит Исусу сквозь бурю: знать, Учитель, мы непростую Рыбу спымали, ежли так Бог на нас обсердилси!.. А Христос стоит, как вкопаннай, на носу лодьи, не шелохнецца. Улыбацца. Говорит им: што ж, значицца, пускать обратно в море будем. И весь сказ! Живое, говорит, – живым… И так сказал: эта Рыба благословлена Мною, Она, мол, будет жить вечно, Золотая, и детишек из икры Своей золотой вечно плодить! А ты, говорит так Андрею, рыбак ты веселый… опосля Моей смерти да Воскресенья Моего – Ее дитенка в сети излови, да не умертви!.. а в сосуде со святой водой из моря Галилейского – далеко, в заморские земли, в иные страны – увези… туда, где ученье Мое проповедать будешь… и в реку большую – выпусти… И это дите Золотой, эта дочка Ее золотая – попалась в сети Андрею-рыбаку, и он из Святой Земли в длинную дорогу отправился… да, опосля Воскресенья то было!.. Так и свершилось, как Христос предсказал. Спымал Андрей-апостол ту Рыбу, запустил в бутыль, воды черпнул… а потом по морям да по рекам – долгай путь, тяжкай!.. чуть не убили в пути бедняжку, да выжил наш рыбак чудом, спасся!.. на чужбину Золотую Рыбу повез. В лодьях плыл… пешим брел… увидал большую реку… Волгу нашу… Велел лодью причалить. Торкнулася лодья носом в берег. Вышел на берег Андрей, с бутылью в руках. Стал на колена у воды. Солнце сияло!.. Он бутыль над водой опрокинул – и выплыла Рыба из бутыли в чужие, голубые воды… «Плыви, – сказал Андрей-рыбак, – плыви, Рыба Христова! Плыви и безмолвно говори всем о Боге истинном да могучем! Тебя никогда не спымают, будет вечна Твоя золотая порода, будешь Ты в людские сети ловиться, да в Божьи дыры уходить! И тот рыбак, кого Христос Бог наш полюбит особо, тот спымат однажды тебя… да в руках не удержит, да обольется слезами! И выпустит тебя, как и я же тебя выпускаю, в синюю воду, в воду поднебесную! Аминь!» Все спутники Андрея-рыбака перекрестилися… а Рыба што? Рыба – хлесь хвостом! – и поплыла! И стала золотую икру метать! И детишек в Волге-реке нарожала! И так в глубине досель и живет, плещется золотой народ рыбий… тайнай, великай! Кому-то, быват, повезет Золотую Рыбу спымать. Кому-то… однажды… кому-то… С молитвой только Ее спымать можно. С молитвой святой… с радостным сердцем, не с черным…
И есть Ее, жарить-варить, нельзя. Надо встать с Ней под Солнцем, а ночью спымашь – под звездами, поднять высоко в руках над собой, и – с обрыва – снова в воду махнуть! И ты увидишь в толще воды Ее путь. Молонью золотую увидишь. Золотую дорогу узришь. Она тебе, Рыба, твою дорогу – покажет…
Я запомнил рассказ деда Василия. Он жег мне сердце.
Я видел себя с Золотой Рыбой в руках. Она била мне по лицу мокрым золотым хвостом.
Я шептал себе: да что ты, Серафим, ты с ума сошел, все это дедовы сказки, все это давние преданья о путешествии Апостола Андрея в Скифию, ну да, и до Борисфена он дошел, и до Танаиса, и до синей, золотой реки Ра, что мы теперь Волгой зовем, – но жажда поймать Великую Рыбу была так велика, она была выше и больше меня самого, эта жажда, она прожигала мне сердце раскаленным красно-золотым ободом, и я молился: Господи, пошли мне Рыбу Твою! Где угодно – в реке ли, на стрежне, в плавнях ли камышовых, в заводях ли с желтыми свечами кувшинок, у поверхности или на глубине, где спят непробудно толстые, как бревна, черные сомы, – хоть на земле, хоть в небесах, а пошли!
В небесах… в небесах…
«Сам ты когда-то уплывешь в небеса, – тихо пел нежный голос во мне, – сам среди звезд поплывешь. Спеши жить. Да умей ждать».
ХОРОВОД СВЯЩЕННИКОВ. СЕРАФИМ
Я думал о священниках, об иереях, которых за недолгую службу мою во славу Божию, в обличье иерея, мне привелось узнать.
В моем селе, в Василе, у меня полно было времени для воспоминаний.
Обычно они приходили ко мне ночью. Лампада горела у киота, еще одна алая ягода теплилась, качалась на сквозняке у иконы Казанской Божьей Матери. Шторы отдернуты, и в окно светит полная либо ущербная Луна, в вышине запредельной горят зерна звезд – безумный, горний золотой овес. На столе валялись мои рукописи, бумаги мои милые, грешные. Грешник, я ночами бумагу марал. Мало мне было малеванья в храме, так еще и слова из сердца просились наружу. Дорогие отцы старые, великие, родные! Иоанн Дамаскин! Роман Сладкопевец! Григорий Богослов! Иоанн Златоуст! Василий Великий! Максим Грек! Простите грешному посяганье его. Вы слагали Божественные гимны – а я всего лишь записываю кровью сердца отчаянье свое либо радость свою. Большего мне не дано, да я и не требую.
Ворох бумаг. Боль ночной песни. Воспоминанья, их едкая, жгучая соль.
«Вы соль земли…»
А рана-то открыта. Соли, соли гуще, щедрей. Терпи. Память – это боль и наука. Память – это последняя, тихая песня твоя.
Вот отец Адриан Каюров, диакон. Он приезжал в Нижний Новгород с лекциями. Глаголил трубным, резко резонирующим со сцены басом о бессмертной вере Православной. О том, как правильно веровать, а как – неправильно. Метал громы и молнии в католиков, в протестантов, в старообрядцев. Лекция текла, как грязная широкая река, и по стрежню уже потекли волны нефтяной, радужно-яркой, а потом и дегтярно-черной ненависти к Востоку, к звездам Индии, к русским художникам, что на Востоке жили, Востоку молились по-русски, Востоком очищались и объединялись. «Индия – мразь! – звучало в его громоподобном басе. – Кришна – демон! Брахма – бес! Апостол Фома никогда в Индию не ходил! Будда – дерьмо! Весь Восток, со всеми потрохами, – диавольское искушение, что преодолеть надобно каждому! Отвратитесь! Откреститесь! Изыди, сатано!» Зал, набитый битком, тяжко вздыхал. В перерыве я вышел в фойе. Лекция проходила в актовом зале академии госслужбы. Раньше, помню, здесь была Высшая партийная школа. Я усмехнулся и взял со стола аккуратно, для покупки, разложенные книги диакона. На одной из аляповатых, ярких обложек было крупно выведено золотой краской: «САТАНА СРЕДИ НАС». Я открыл книгу и перелистал. Боже, опять инквизиторский костер. Я не желал рыться в его черных и алых углях. Тихо отложил книгу. Спросил себя: ведь ты христианин, диакон, так зачем же ты тогда носитель ненависти, а ведь Христос-то о любви говорил? О понимании? «Не делай другому того, что ты не желал бы, чтоб сделали тебе…»
Меня легко кто-то тронул за плечо. Я обернулся. Передо мной стоял, с ноги на ногу переступал, мялся в давно не стиранной рясе, отец Григорий Медников, настоятель храма Ильи Пророка. Его рыжие, воистину медные волосы топорщились вокруг румяных щек нагло и радостно, осенним чертополохом.
– Что, отец Серафим, книжечки рассматриваете? – вкрадчиво пропел отец Григорий. – Приглядели что? Умница ведь диакон Адриан, нет сомненья!