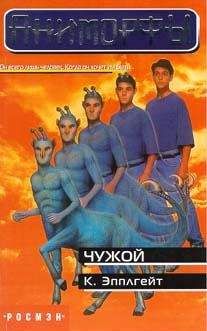Светлана Метелева - Чернокнижник (СИ)
— Где это я?
— На хронике.
— На какой еще хронике?
— Филиал тубонара. Для стоячих. В смысле, которые еще на ногах держатся. Поэтому в больницу таких не кладут, а сгружают всех сюда, на хронику.
— Погоди — как же ты говоришь — «стоячие», а вон валяются в углу?
— Да это трупы. Проверка будет — заберут. Здесь часто мрут, почти как в тубонаре.
Отвели к смотрящему. Снова повезло: знакомый одного пассажира, с которым имел я совместные дела на свободе, хоть и было это очень давно. Встрече обрадовался, нашел мне место — у окна.
Окно. Наверху, возле потолка: решеток — три; за ними — стальной лист вроде жалюзи. Сквозь щели видно небо. Свинцовое, темное, сырое. Лежать нельзя — слишком много места занимаешь. Можно — стоять. Хочешь спать — присядь. Нар здесь не было — лежанки какие-то валялись около стен. Спросил — сколько камер здесь, на этой хронике? Ответили: весь этаж.
Рядом со мной кто-то, присев на корточки, тихо, но неестественно быстро бормотал. Юноша? Мужчина?
Худой, синий; растатуированные пальцы мелко дрожат, губы тоже; в каком-то рванье; пахнет пронзительно. Конченый нарик — приходилось видеть таких. Одна оболочка; нутра уже нет. За ним не найдешь истории; не отыщешь сюжета; в таких обычно остаются только цитаты. Вот он — ходячий дайджест. Больной телевизор. То ли поет, то ли плачет. Голову уронил на грудь. Я прислушался.
— В самой жалкой из хижин,
Или просто в тюрьме,
Добрый мой чернокнижник,
пожалей обо мне.
Ты — в ряду инкунабул
приговором судьи.
Или — падалью на пол…
Голова закружилась. Душно. Плохо. Озноб. Рванул ворот, поднялся. Нашарил в мешке свою тетрадь. Карандаш где? Вот он.
Я писал. Стоя, около окна, пристроив тетрадь на одном колене. Я игнорировал чужие вопросы. Я не слышал насмешек. Не видел взглядов.
Только белые страницы — и карандаш. Кривые, разъезжающиеся буквы — и замусоленный угол листа. Не знаю, почему, — но мне казалось важным связывать слова, заполнять дневник; я ощущал — нутром своим, надорванными легкими: надо. Должен. Пока пишу — не умру. Слова окружали меня непобедимым щитом. Отбрасывали новые атаки костлявой. Глушили стоны сокамерников. Я писал.
…Вернулся в реальность оттого, что кто-то навалился — нагло — сбоку. Оттолкнул, потом глянул — зря! Нарик, который песню пел. Насиделся, видно. От моего толчка размазался тряпкой по стене, сгрудился внизу. С трудом поднял его. Певца качало. Он опять начал петь — и попытался обнять меня. Ну-ну, спокойней. Я тебе не мама. Давай, друг, держись на ногах. Он запрокинул голову, посмотрел на меня. В глазах слишком яркого цвета било через край безумие. Перемотка — вот что это было. Быстрая перемотка — с невероятной скоростью проносились в глазах эмоции и мысли. Страх сменялся дикой радостью, тут же радость исчезала, вытесненная смирением, которое моментально разгоралось злобой. Я попробовал прислонить его к стене…
— Боря, не трогай. Бесполезно. Хана ему. Привезли, по ходу, с ломкой — орал двое суток; пару раз заткнули — без толку, снова орал. С ума сошел — от боли, нет — хрен его знает. Да брось ты его, говорю. Доходит все равно. Не поможешь.
— А поет — почему?
— Слышь, вопросы у тебя… Поет… Сбрендил — вот и поет. Он еще и стихи читает.
— А дежурному сказать? Может, в больничку заберет?
— Жди. Кому он там нужен? Все равно сдохнет, Боря. Не сегодня — так завтра, по-любому.
Парень умер этой же ночью. Утром дежурный за ноги вытащил в коридор труп.
* * *…Я писал. Меня звали на чифир — шел. Есть не хотел. Некоторые все еще спрашивали — что, мол, Боря, пишешь? Отвечал вежливо: оперу пишу. Большое музыкальное произведение. Для фортепиано с оркестром. А зовут меня — великий композитор Шнитке. Постепенно отстали. Смотрящий, видимо, решил, что я тоже съезжаю. А я писал — в том же углу, сгорбившись, примостив дневник на черном полиэтиленовом пакете. Иногда, подыскивая слово, поднимал голову — почти каждый раз видел рядом чужие ноги. Кашлял.
Рядом со мной второй день кто-то не переставая матерился. У противоположной стены, раскачиваясь, скелетообразный старик монотонно читал молитвы. Какие — не понял.
Я был в аду. В сердце преисподней. Здесь все время воняло. Здесь проклинали и призывали бога с одинаковым отчаянием. Здесь испражнялись, теряли сознание, умирали — безнадежно и безропотно.
И я думал. Вспоминал тот, давнишний, разговор с Комментатором — о том, что есть только прошлое и будущее, а настоящее неуловимо, и только одна возможность поймать его за хвост — это письмо, Книга. Спорил: не только. Есть и еще один способ — смерть. Будущее ее кажется нереальным: любой может произнести: «я умру» — но никто в это не верит. У нее нет прошлого — потому что нельзя сказать: «я умер». Смерть — в настоящем.
Я выводил слова. Озноб становился сильнее, карандаш выпадал из прыгающих пальцев. Кажется, я терял сознание — проносились в голове странные картины: я видел Киприадиса, Климова, Соловьева. Климов усмехался понимающе, Киприадис вроде потирал руки довольно, Соловьев поправлял очки. Я видел Комментатора: он смотрел на меня с жалостью. Потом все смешалось — я ощущал себя грязным, липким, с резиновым запахом. Образы мелькали — и уносились прочь, пока не осталось одно видение — яркое до боли в глазах, красочное, необъяснимое — Киприадис вырывал у кого-то черный полиэтиленовый пакет. Я пригляделся — монах, средневековый монах Умберто тянул пакет к себе, вот он опустил туда руку — и шарил внутри, точно искал что-то. С диким воем Киприадис растаял — а из пакета выпала книга.
И я понял — только сейчас, умирая, понял: черный полиэтиленовый пакет — это я. Истасканный, провалявшийся черт знает где, в пыльных ящиках, захватанный чужими руками, пользуемый — кем угодно, любым, кто нашел — это я. И не удивился, когда монах, с доброй улыбкой заглянув мне в глаза, поднес к пакету зажигалку. Полиэтилен занялся, начал сворачиваться, сморщиваться, плавиться, невыносимо воняло паленым.
И я сам морщился и сворачивался от боли, плавился изнутри, ощущал невыносимую вонь — не от больного тела, нет — от замаранной, зараженной души. И катался по полу — от нестерпимого ужаса самого себя.
Я соглашался: да, уничтожить, сжечь, превратить в труху — убить черный пакет, чтобы достать оттуда книгу.
И я умирал.
Мысли то и дело путались, срывались каплями дождя с тюремной крыши, я проваливался в черноту — и выныривал, обессиленный. Пару раз смотрящий за камерой дал мне воды. Я услышал голос: жар у него, похоже, отойдет к вечеру. Сквозь серый туман — последней картинкой в жизни — увидел: открывается дверь камеры.
— Трупы есть?
— Есть, вон справа лежит.
Дежурный взял чье-то тело за ноги, дернул — не получилось.
— Че за фигня? Чем он там цепляется?
— Какой-то образок у него на шее, гражданин начальник. Щас отцепим. Вот, возьмите.
Дежурный повертел какую-то мелкую — не разглядеть — вещь в руках. Усмехнулся.
— Мне ни к чему. Следующему пригодится. Кто там на очереди? Горелов? Лови.
Он бросил. Маленькая вещица с деревянным стуком упала рядом. Я нашарил рукой, поднес к слепнувшим глазам. Икона. Да, кажется, икона.
Это был Бог. Я узнал его.
Вытянул руку с иконой влево — туда, где качалось светлое пятно электрической лампы. Страшным усилием напряг зрение — разглядел. В деревянном прямоугольнике прятался лик Богородицы.
Вверху — слова.
Больным исцеление. Нагим одеяние…
…Прости меня, Господи, если получится…
Глава 4
Февраль — март 1996 года.
…Тяжелые двустворчатые двери распахнутся, холодный ветер моментально ворвется внутрь, растревожит огонь факелов; пламя метнется в сторону. Я услышу свой голос:
— Введите обвиняемого.
Свинцовое небо — его почти не видно; высокие окна закрыты витражами; а вверху, под самыми сводами залы иногда проносятся летучие мыши. Каменный пол, темный с боков, вытерт посередине — слишком часто заводят сюда преступников. По левую руку от меня — писарь за кафедрой; безбородый юноша, младший сын высокого рода; он внимает происходящему, замерев от почтения, не ведая, что истины нет здесь — и не может быть; и не найти ее смертному, ибо один только Всеблагой Господь зрит ее в душах. Позади меня, за спинкой кресла недвижно стоит булавоносец — точно статуя, держит булаву с короной, не шелохнется. Четверо стражников застыли по углам.
…Я вспомню совсем другой день, когда облекали меня высоким званием лорд-канцлера; когда мне вручили большую печать и герцог Норфолкский представил меня милордам. Ах, как потешалось высокое собрание над моей ответной речью! Как смешно казалось им сказанное — настолько же приятным мог бы я счесть это место, как приятен был Дамоклу висевший над ним меч. Я вовсе не собирался тогда шутить — но глупцы и безумцы толкуют согласно собственному неразумию. И сейчас самых глубин души вновь касается холодная дрожь необъяснимого беспокойства; и мне уже неудобно сидеть на мешке с шерстью; голову под париком бросает в жар и в холод. Кто такой человек, чтобы судить себе подобных, Боже наш? Разве может хватить скудного нашего разума, дабы понять истоки чужих проступков? Разве способен слепец оценить многообразие красок на холсте художника? Не умея уловить в картине мироздания всех сплетений причин и следствий, как дерзаем мы судить?..