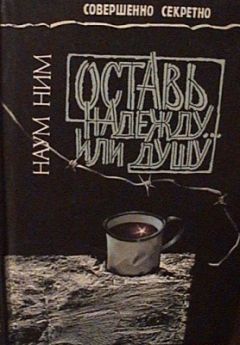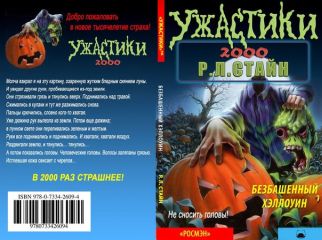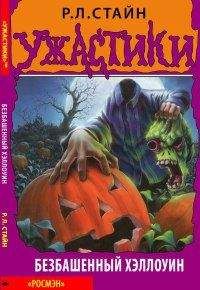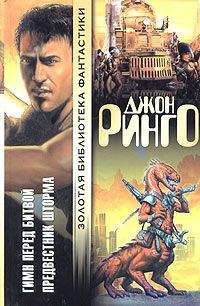Олег Рой - Вдали от рая
Так продолжалось долго, сколько именно времени – он не знал, поскольку уже давно не вел счета дням. Во всяком случае, лето уже успело закончиться. Похолодало, зарядили дожди, дни становились короче, и желтые листья, упавшие вдруг под ноги, уже не воспринимались как досадная случайность.
Однажды рано утром в дверь его квартиры позвонили. Это было странно – обычно его посетители никогда не являлись вот так, наобум, а старались всегда заранее договориться о визите по телефону. В крайнем случае звонила, по телефону же, консьержка. А тут кто-то нагрянул без предварительной договоренности.
Когда прозвучал этот звонок, голова Виктора, которую он еле сумел оторвать от подушки и тут же уронил обратно, напоминала тяжелый, набитый грязным бельем и заплесневелыми объедками чемодан.
Звонок повторился – требовательно, настойчиво, как будто звонивший удерживал палец на кнопке. Кого это принесла нелегкая? Виктор выругался. Шатаясь, поднялся на вялые, слабые ноги; накинул валявшийся рядом на стуле халат, нашарил ногами тапочки и двинулся в долгое мучительное путешествие по собственной квартире. Барабанные перепонки терзала новая серия звонков.
– Да иду уже, иду! Хватит трезвонить! Кто там, Юра, ты, что ли?
Либо Юра, либо… Кто же еще? В крайнем случае Аллочка – если она решила снова повыяснять отношения… Виктор был уверен, что в его солидный дом с охраной случайный посетитель не проникнет. Поэтому он, не колеблясь, отпер дверь. И пережил небольшое нервное потрясение…
«Цыганка!» – вот было первое слово, которое почему-то возникло в голове при виде нежданной пришелицы. Несмотря на то что волосы у нее были совсем не черные, а, наоборот, соломенно-желтые – хотя, вероятно, крашеные. Цвет кожи – не по-цыгански смуглый, а нездорово-белый, мучнистый. На этом лице там и сям алели точки угрей, которые еще называют юношескими – пожалуй, единственная примета молодости незнакомки, потому что по хомячьим щекам и худой, но какой-то рыхлой, с обвисшей грудью, фигуре, полускрытой бесформенной юбкой и слишком теплой, не по погоде, курткой, ей можно было дать не меньше сорока.
Цыганкой же она показалась Виктору потому, что окружавшие ее дети, хлынувшие в открытую дверь радостной ордой, составляли целый табор. Старшему, такому же прыщавому, как мамаша, было лет двенадцать; младший пискливо голосил из байкового одеяльца у нее на руках. Виктору померещилось, что среди них было несколько двойняшек, а то и тройняшек. А может, и не померещилось… Ведь только наличием близнецов можно было объяснить, каким образом эта женщина (нет, несмотря на потасканный вид, она явно моложе сорока) успела обзавестись такой прорвой отпрысков.
Виктор уже хотел было захлопнуть дверь, но женщина ловко втиснула в проем ногу в стоптанной кроссовке. Одной рукой прижимая к груди кулек с младенцем, другую она уперла в бок и пошла в атаку на Виктора:
– И не стыдно, а? Он еще дверь закрывает, сволочь!.. Отобрал у многодетной матери квартиру и радуется! Совсем эти буржуи совесть потеряли!
Виктор попытался вытеснить пришелицу на лестничную площадку, однако против него выставили, точно щит, орущего младенца. После чего самого хозяина квартиры оттеснили в холл, а затем в гостиную, где уже обосновалась добрая половина «цыганят». Остальные рассеялись по квартире. Из туалета раздался шум спускаемой воды. Из кухни – звук открываемого холодильника. Кое-кто возродил старую школьную забаву – съезжал по перилам со второго этажа. Двое пацанят, нисколько не смущаясь присутствием Виктора, включили телевизор с плазменным экраном и упоенно щелкали пультом.
– Что за ерунда? У кого это я отобрал квартиру? Это была чистая сделка… предыдущий владелец умер… могу документы предъявить…
Виктор с трудом отнял у возбужденно галдящей малышни телевизионный пульт. Вообще-то он всегда считал, что любит детей – но не в таких же количествах!
Многодетная мать ехидно улыбнулась. На правом краю улыбки победно сверкнул золотой зуб.
– Ох, скажите на милость, документы он мне предъявит! Я тоже, знаете ли, могу документы предъявить! И я это сделаю – вот увидите, сделаю! Я хоть и не из тех, которые на Канары по выходным разъезжают, но нашла-таки деньги, чтоб адвоката нанять. И адвокат мне точно сказал: «Не беспокойтесь, Эльвира, наше дело верное».
Маленькая грязная ручонка снова потянула пульт к себе. На этот раз Виктор выпустил его без сопротивления.
– Я – Эльвира Панасенко, родная дочь покойного Станислава Самойловича Панасенко, который был тут прописан, – запоздало представилась незваная гостья.
– И что с того?
– А то, что моя доля в отцовской квартире тоже была! – тут она заговорила торопливо, явно повторяя заученные чужие слова. – При заключении сделки должны были учитываться мои интересы и интересы моих детей. А раз интересы не учитывались, – она с облегчением выдохнула и перешла на более привычный для нее язык, – то извини-подвинься, квартира не ваша, а моя! И вы тут проживаете незаконно! Скажите спасибо, что я еще по-человечески пришла, а не с милицией!..
Ярость полыхнула изнутри, опалила Виктора – та самая, неизвестно откуда пришедшая, но ставшая его неразлучной спутницей в последнее время. Сами собой стиснулись кулаки. Он уже видел, как его зажатая пятерня устремляется прямо в этот наглый рот, превращая его в кровавое месиво; как, отлетев по касательной, врезается в стену и затихает, прощально пискнув, байковый кулечек… От того, чтобы сделать эту картину явью, удержала не совесть, а корысть. Если он нанесет побои женщине, да еще заденет грудного ребенка, то однозначно попадет под статью. А чтобы сохранить квартиру и разобраться во всем, придется сдерживаться…
– Та-ак, – размеренно, толчками забивая внутрь опасную ярость, произнес Виктор. – Вот что, хватит. Через минуту чтобы духу вашего здесь не было, слышите?! Иначе я за себя не отвечаю.
И, подойдя к радиотелефону, каким-то образом не попавшему в поле зрения детской орды и потому уцелевшему, набрал номер консьержки и заорал:
– Дежурная? Кто там сегодня? Ах, Евгения Михайловна! Вы что там, спите на посту? Как ко мне проникла эта полоумная тетка с ее выродками?
– Виктор Петрович, – зажурчал в трубке оправдывающийся голос, – да разве бы я… Не сердитесь, умоляю! Я же и сама не хотела их пускать! Но мне позвонил ваш друг, Александр Николаевич…
– Варфоломеев?
Сашка?! Он-то тут при чем?
– Он пытался до вас дозвониться с утра… Не смог… Предупредил меня, чтобы я пропустила к вам эту… эту особу… И еще просил передать, что ему нужно немедленно с вами увидеться. Так и сказал – немедленно…
Глава восьмая, в которой Дмитрий Волковской выходит на новый виток своих исследований
В двадцатых годах XX века Дмитрий Волковской был едва ли не самым модным врачом Ленинграда. Среди его пациентов попадались и знаменитые актеры, и иностранные дипломаты, и представители партийной верхушки города, а также их жены, дети, любовницы и любовники. О Волковском ходили легенды, утверждавшие, что профессор способен поставить точный диагноз в самых что ни на есть запутанных случаях и чудодейственным образом спасает даже тех больных, которые были признаны безнадежными всей остальной медицинской наукой.
Что касается этой самой остальной медицинской науки, то она открыто недолюбливала профессора Волковского. Одни открыто называли его шарлатаном, другие обсуждали вполголоса его методы, дивясь и недоумевая, третьи морщились при одном упоминании о нем и просили собеседников вообще не произносить при них его имени.
Знаменитый врач и впрямь отличался великими странностями. Прием в его квартире всегда начинал ассистент, который тщательно опрашивал каждого больного о его болезни в просторной, очень ярко освещенной комнате. А затем, без перерыва, проводил пациента в другую комнату, где было совершенно темно, и удалялся. С полминуты бедняга больной полностью терял ориентацию в пространстве: ему представлялось, будто бы он навсегда попал в область кромешного мрака, совершеннейшего небытия и уже никогда больше не выберется отсюда. Только через некоторое время глаза привыкали к темноте и начинали различать черные драпировки, покрывающие стены сверху донизу. Изредка эти драпировки колыхались, точно от дуновения воздуха. Потом неожиданно загоралась небольшая лампа на столе, за которым сидел сам профессор, оказывающийся, к удивлению тех, кто его еще не знал, довольно молодым человеком в блестящих очках, с аккуратной бородкой и цепким, точно пронизывающим рентгеном, взглядом. Он говорил мягким низким голосом, и говорил так приятно и учтиво, что голос его, казалось, так и закрадывался в душу. Речь Волковского обладала удивительным, сродни гипнотическому, воздействием. Буквально через пару минут беседы пациента так и тянуло рассказать ему все, что люди обычно скрывают: о том, как в детстве привязывал дворовой Жучке жестянку на хвост, о первых опытах мастурбации, о той долговязой девице, с которой познакомился на бульваре, и о дяде Мише, умершем в Луге от сифилиса… Впоследствии, выйдя от профессора, пациенты удивлялись собственной откровенности и нередко стыдились ее. Но пока они сидели напротив стола Волковского, потребность рассказать о себе все, выплеснуть все до самого донышка, вывернуться наизнанку представлялась самым естественным делом.