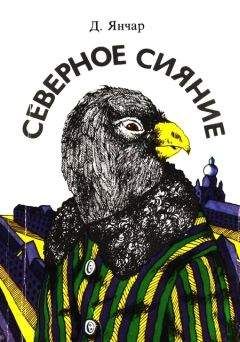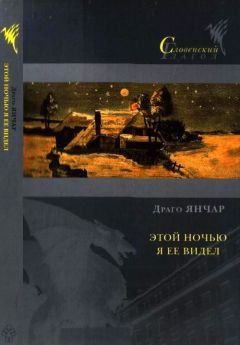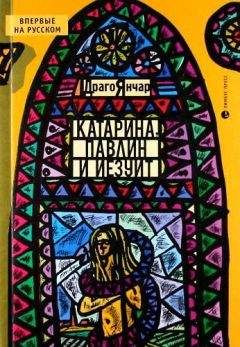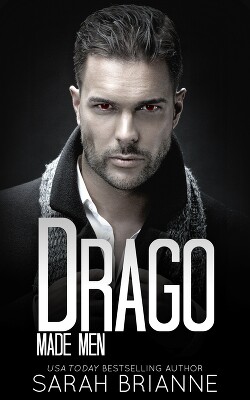Насмешливое вожделение - Янчар Драго
Луиза: Я ему полностью доверяю. Он научил меня смеяться.
Грегор (после краткого раздумья): Я тоже ему доверяю.
Еще через неделю Луиза опять поселилась в квартире Гамбо. Где она все это время была, Грегор не спросил. В конце концов, это было не его дело. Он был наблюдателем. Слишком сильно вмешиваться не хотел. Что касается ситуации в целом, то здесь он был еще и трусом. Необъятный полицейский, который иногда стоял на углу и махал своей палкой, показался ему теперь в два раза шире, чем обычно. Он перегородил собой тротуар, и когда Грегор Градник обходил его по большой дуге, ему казалось, что тот, не переставая жевать, за ним наблюдает. Ночью кто-то стоял под его окном. Он с тревогой наблюдал, как мужчина в футболке ходит вокруг уличного фонаря. Потом пришел блондинистый парень. Схватил мужчину за руку, тот другой рукой взялся за фонарный столб, и оба закружились вокруг него, как в детской игре. Он подумал, что надо рассказать обо всем случившемся Фреду Блауманну. Но слова, которые нужно было сказать, были такими, что он бы хотел, чтобы их произнес кто-то другой. Фред одурел от своего исследования, был поглощен своей студенткой Мэг Холик и ее отъездом в Нью-Йорк. Он позеленел от меланхолии. Во время пробежек уносился своими научными и писательскими мыслями подальше от парка Одюбон, погружаясь в глубокий и насыщенный материал своих исследований, в текст, мигающий на экране. У Фреда была только одна жизнь. И тому, что произошло на Филипп-стрит, в ней места не было.
В воскресенье вечером они с Луизой сидели в «Лафитте» и слушали Леди Лили. Луиза не смеялась, не плакала, ее взгляд был до странности отсутствующим. На мгновение ему показалось, что она не прочь продолжить то, на чем они когда-то давно ночью остановились. Но об этом было только слабое воспоминание. Она не могла выдавить из себя ни единой слезы, ни единой улыбки. Димитровны Кордачовой больше не было, ее славянская душа улетучилась. Осталась только оболочка. Когда они ненадолго остались одни, она взяла двумя пальцами щепотку порошка, насыпала на ладонь и с коротким, всасывающим звуком втянула в нос. И это был не poudre de Perlainpainpain.
Овидий, Орест, Олив, Онесия, Отео, Одалиа, Октав и Олит, скинулись каждый по одной восьмой на залог. И однажды утром дверь Грегора заходила ходуном от знакомых пинков. Нельзя было сказать, что тюрьма пагубно отразилась на Гамбо. Гомес все еще сидит, — сказал он. Это означает, что у него неплохие шансы. В худшем случае он получит год. Что такое год? — заметил он. — За год он может написать книгу. Хотя все еще есть вероятность, что ему дадут условно. В этом случае он не будет писать книгу, а займется чем-нибудь другим. — Тут он загадочно подмигнул. В «Ригби», где особенно по нему не скорбели, его возвращению обрадовались. Просто они там больше любят веселиться, чем печалиться, в этом не было ничего плохого. Гамбо угостил весь бар выпивкой. Даже туристов, случайно там оказавшихся, которые весело выпили за его здоровье.
«Держу пари, — сказал он, — они всегда спрашивают, что же на самом деле произошло в том трамвае».
Почему он называется «Желание». «Трамвай „Желание“». Водитель и пассажирка любили друг друга на конечной остановке? На трамвайных сиденьях? Что произошло во время езды, и как это случилось? На этот вопрос ответит его книга, если он получит год. Водителя будут звать Ковальский, пассажирку Стелла. Ночь будет жаркой. Книга будет называться «Трамвай, конечная остановка».
Луиза будет одета, как Стелла из фильма, и будет продавать книгу возле трамвая.
«Ах, — вздохнул он чуть позже, поняв, что его последний порыв не произвел на Градника сильного впечатления. — Мне не хватает идей. Это скверно, очень скверно».
Они ехали в Билокси. В открытые окна врывались волны горячего воздуха. Иисус не хотел играть. Он был трезв, тяжело дышал. Луиза сидела, забившись в угол на заднем сиденье. Г. и Г. обсуждали возможность получения Ористидом Ланьяппе условного срока. Гамбо предложил Грегору позвонить той светловолосой, которая к нему приезжала. В основном ночью, но, случалось, и до полудня. Иногда еще забегала, в экипировке для бега. Гамбо все видит, Гамбо все знает. Грегор закурил и посмотрел на проносящийся мимо прибрежный пейзаж. Он вспомнил поездку к дельте реки вскоре после приезда. Они втроем сидели на переднем сиденье «бьюика» Питера. Сбалансированный чеснок. Гамбо сказал, что видел ее в суде. С папкой под мышкой. Может быть, с его папкой. Она вполне бы могла помочь. — Заткнись, — бросила Луиза. — Что я такого сказал? — спросил Гамбо. Иисус постанывал. Ему было жарко, его одолевала жажда. Гамбо останавливаться не хотел. Пререкались до Билокси.
Там они уселись на пляже между поджаривавшимися телами. Иисус принес две упаковки пива от оптовика. Наступил вечер, и купальщики начали расходиться, а они все еще там сидели. Тут Иисус начал играть. Вдруг вытащил из кармана губную гармонику и пробежал по ней губами. Он был сам по себе, никаких музыкальных заказов от клиентов принимать не желал. Играл для себя. И еще, быть может, для океана, который, не переставая, выплескивал волны на песок. Песок был горячий, с океана дул ветер. Грегор лежал на спине и смотрел, как медленно темнеет безбрежное небо. Луиза внезапно поднялась и пошла навстречу волнам. Она уходила все дальше и дальше, потом они увидели, как она взмахнула руками и потеряла равновесие. Г. и Г. бросились в воду и вытащили ее на берег. У Гамбо потемнело лицо. — Ты опять за старое! — Закричал он, — опять! И коротким ударом тяжелой ладони отвесил ей затрещину. Луиза опустила голову, мокрые волосы закрыли ей лицо. Иисус заиграл дальше.
На обратном пути Гамбо попытался поднять настроение. — Жизнь и так грёбаная, — сказал он, — а мы сами делаем ее еще хуже. Он врубил радио и начал громко подпевать. У Иисуса теперь был с собой бумажный пакет, а в нем бутылка. Он рассказывал о музыканте, с которым играет. — Не хуже меня, — заметил он, — когда я играю трезвым. Когда оба в ударе, то понимают друг друга с полуслова, Иисус играет на басах, и тот никогда не перебивает, иногда только, на дёрти-тонах, но стоит ему взглянуть, сразу сдает назад. Блюзовые тоны он играет один, никого и близко не подпускает. — Джазмены, — сказал Гамбо, — последние представители американской богемы. Писатели слоняются по университетам и преподают запятые. Восклицательные знаки, — подумал Грегор Градник, восклицательные. И исследуют меланхолию. Художники малюют портреты на Джексон-сквер. Таких, как Теннесси Уильямс, больше нет. Чтобы запахло духами, виски, мочой и кровью. Один Иисус еще творит, и плевать ему на этот университет. Иисус согласился: точно, плевать.
Они пересекали озеро Пончартрейн по низкому, страшно длинному мосту на деревянных сваях. С обеих сторон была нескончаемая темная вода, ночь, Луиза спала, Гамбо, наконец, замолк. А Иисус играл.
Но когда потом они въехали по эстакаде в город, ситуация снова обострилась. Гамбо начал объяснять, что собирается вместе с братьями и сестрами открыть ресторан, где будут готовить гамбо, джамбалайю, крабов, креветок и всякое такое. Возможно, самый многообещающий план испортила Луиза, которая мгновенно проснулась. Луиза. Она эту жижу готовить не будет. И подавать тоже. — Какую жижу? — спросил Гамбо. — Ту, что воняет рыбой, вонючую. — Гамбо на нее заорал. Луиза заверещала. Иисус бросил в окно пустую бутылку. Гамбо остановил машину. — Хочешь, чтобы меня замела полиция? — завопил он. — Ты, черный ублюдок! Иисус открыл дверь и вылез прямо в поток несущихся и сигналящих автомобилей. Шагнул к водительской двери. — Больше никогда, Гамбо, — сказал он, — никогда. Гамбо нажал на газ и отъехал. Потом передумал и попытался дать задний ход. Скрежет тормозов, вой сирены, приближалась полицейская машина.