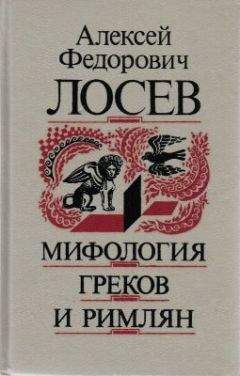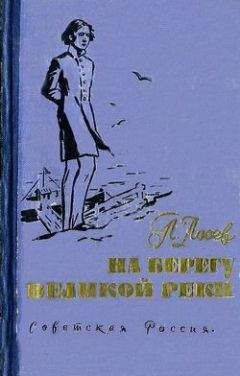Даниил Гранин - Картина
То был, может, наивысший взлет его жизни. Счастьем было полагать, что все зависит от него, что он может обеспечить людей жильем, благоустроить город, привести в дома воду, канализацию, тепло. Ощущение могущества переполняло его, могущество возможностей: хватит у него сил, энергии — и все будет, все появится.
Утверждали, что Лосев такой потому, что у него есть рука в Москве, ему хорошо, он может себе позволить. Фигуровский, конечно, способствовал первоначальному, так сказать, выявлению, первоначальному толчку, но скорее всего Лосев все равно выбрался бы на эту стезю, ибо способности его как нельзя лучше подходили для этой должности.
Что было бы, если бы… — извечный вопрос, который, к сожалению, нельзя проверить ни в одной человеческой судьбе. Никакого опыта нельзя провести, ни вычислить, ни доказать, — мы только то, что получилось, мы не можем узнать, что могло из нас быть, если бы…
Катастрофа произошла непредвиденно, как и положено катастрофе. Сигналы, конечно, были. Задним числом Лосев вспоминал — Конюхов его неоднократно предупреждал: «Не рви постромки! Куда мчишься, ноги переломаешь». Он был философ: «Личность не должна форсировать ход развития. Все, что следует, произойдет само собою. Зачем надрываться и перенапрягать систему?..» И далее шли более конкретные предупреждения. Но Лосев только посмеивался. Он вмешивался в распределение жилплощади, защищая интересы своих строителей, он прижал торговых работников за разбазаривание стройматериалов и отказывался посылать кой-кому строителей на квартиру — белить, оклеивать, он не давал фанеры, плиток — словом, совершал всякие принципиальные поступки, которые мало помогают реальным отношениям и не положены заместителю председателя.
На него написали несколько анонимных писем, с цифрами, датами, фамилиями, обвиняли в нарушениях финансовой дисциплины, самоуправстве, нехороших разговорах в адрес начальства. На письма отреагировали быстро, все покатилось по отлаженной схеме: прибыла комиссия, документы оказались подготовленными, свидетели давали нужные показания, нарушения были найдены и дело двинулось в путь-дорогу.
Никаких мер Лосев не принимал, с комиссией объяснился высокомерно; считал ни-же своего достоинства опровергать анонимки, искать защитников, ехать в область протестовать.
К тому же Конюхов успокаивал, благодушно и уверенно подмигивая, как будто что-то знал: только не суетись, разберутся, всякая суета роняет престиж.
В разгар всех этих дел Лосева вызвали в Москву. На какое-то малозначительное совещание, но вызвали категорически. После совещания Фигуровский повез Лосева к себе. Оказалось, он прослышал лыковские дела и хотел составить свое мнение. Расспрашивал придирчиво — и про Конюхова, и про остальных сотрудников, что-то сопоставлял, щурился, прицокивал, пока не убедился, что нарушения обыкновенные, неизбежные у каждого руководителя, который хочет строить, а не рапортовать. Нарушения эти можно и не заметить, можно за них получить выговор, а можно и передать дело прокурору. Все зависит от местной обстановки … Где-то тут находился больной пунктик Лосева, и Фигуровский безжалостно, как врач, нащупывал, надавливал, вызывал яростный крик — и прекрасно, что к прокурору! Если уж на то пошло, Лосев хотел пойти под суд, он жаждал публичности, открытого боя.
Обстановка меж тем складывалась неприятная, не в пример Конюхову Фигуровский придавал делу серьезное значение. Кстати, Конюховым тоже не следует обольщаться, потому что именно Конюхов, когда его запросили, согласился с анонимками.
Появлению комиссии предшествовали всякого рода переговоры, о которых Лосев не подозревал. И все это какими-то сложными ходами было связано с самим Фигуровским, положение которого в очередной раз пошатнулось. Надвинулась новая опала, и то ли хотели Лосева подверстать — вот, мол, кого Фигуровский рекомендовал, то ли в Лыкове узнали, что защищать Лосева некому…
Лосев не понимал, кому он мешал. На каком основании на него ополчились? Он работал, и больше ничего. Вся вина его в том, что он много работал.
Они сидели на кухне большой неуютной квартиры, обставленной казенной на вид мебелью. Пили чай, составленный Фигуровским из зверобоя, малины, березовых почек и каких-то еще трав, смешанных в точной пропорции. Чай был душистый и острый. На столе лежали сушки и маринованные миноги. Ничего другого хозяин не нашел. На кухню заглядывали какие-то седые старики и старушки, все коротко стриженные, все с простуженными голосами, похожие на Фигуровского.
Дома Фигуровский, без пиджака, в потертой кроличьей безрукавке, в черных валенках, нисколько не потерял своей значимости. То, что он говорил на кухне, было не менее весомо, чем то, что произносилось в его огромном кабинете в окружении телефонов, селекторов, референтов, помощников. В любой обстановке он оставался большим человеком. В этом было его отличие от других, которые Лосева всегда изумляли, — после снятия или ухода на пенсию куда девались их мудрость, уверенность, знания?
Фигуровский рассказывал, как на охоте застрелили у него сеттера, талантливейшую собаку, чемпиона, любого подранка вытаскивал, и вот взяли и лупанули ему дробью в голову, когда плыл с уткой. Какая тут логика? Люди поступают не по логике. Лосев школьно мыслит, если он располагает человека по законам симметрии: всякое зло должно иметь основание, зло, допустим, уравновешиваться выгодой, добро — славой, каждый поступок должен быть чем-то обусловлен, всему должна быть причина, и тому подобные прописи. На самом-то деле люди творят черт знает что безо всяких мотивов. Никакой симметрии. Может, мир движется и развивается этой асимметрией. От нарушений логики и происходит прогресс, хотя что такое прогресс, Фигуровский определить затруднялся.
От малопонятных, отвлеченных рассуждений Фигуровский вдруг переходил к нелепостям лосевского поведения, превращал его достоинства в недостатки, простодушие в глупость, правдолюбие в склочность. Бездельника Конюхова следовало давно обезвредить, выставить его перед начальством как пьяницу, доказать, что нельзя такого держать; уволить и снять его дружков, его опору. Лосеву надо это было делать сразу, пока новому человеку разрешают подбирать кадры. Привлечь молодых, тех, кто хочет работать, — они были бы обязаны Лосеву, они составили бы его преторианскую гвардию. Старые кадры всегда недовольны новыми руководителями. Надо было не только хорошо работать, но и показывать свою работу, уметь преподносить ее, а то получилось, что ее приписал себе тот же Конюхов и другие. Лосеву недоставало цинизма, честолюбие его было примитивно, оно все уходило в работу, от него разило честностью, так что это могло отвратить не только Конюховых.