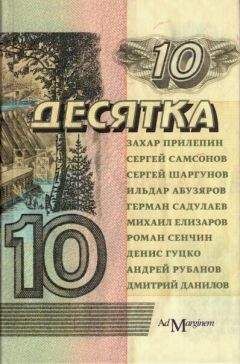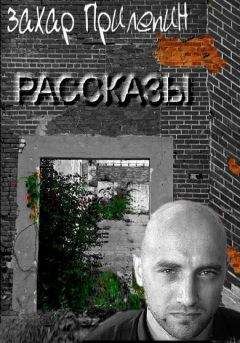Захар Прилепин - К нам едет Пересвет. Отчет за нулевые
Византия едва удерживала груз своей величественной истории, побед, поднебесных зданий, а русичи в лес ходили втроем. И лопушками…
А потом лопушки побросали, приплыли в Византию, щит прибили на ворота, данью обложили Царьград.
В бородах. В нелепых одеждах. Зимой — примороженные, летом — разморенные.
Зимой — всю зиму — едят из бочек, жрут что запасли, руками в лохань прокисшую влезая. Живут почти безвылазно, как кроты — снегом завалено по макушку. Сидят в темноте и пахнут. Подерутся иногда. Надоест — на лыжи, на охоту. Белки от перегара с елей наземь падают.
А летом — разморенные. Косят, пашут, ебашут…
Летний день зимний месяц кормит. Разморенные, а размориться некогда.
Матушка-природа всю головушку изуродовала русскому человеку. Терпенья нет никакого все это вытерпеть, но куда денешься, терпишь… Почти весь год холод терпишь, потом три месяца пашешь до бессчетного пота — озвереешь… Скорей бы опять зима…
Всегда были жадными. Всегда казалось, что — плохие воины. Всегда желали, чтобы у соседа корова сдохла. Неизменны тысячу лет.
Принесите зеркало — равнодушно посмотрит. Не удивится. «Ну, я…»
Люблю тебя, милый мой, корявый…
Церкви строил и жег. Воевал глупо и бестолково. Все делал так, что должно было обвалиться. Но стояло тысячу лет. Никто не сдвинул.
В России нет современности. Поэтому ее никто не понимает. Может, и не надо?
В России нет времени: русское время, раскипевшееся, выплескивает за край, обваривает Европу и возвращается, дымясь.
И православный священник идет за воинством, уставший, ступая по сгоревшей, обветренной, освященной нами земле.
…В лейтенанте, бритом до синевы… выкрикнувшем… узнаю…
И еще строка из «Слова о полку Игореве» пульсирует.
И, разрывая пасть, выбегая в кошмар, хочу крикнуть: «За Мишку Лермонта! За Серегу Есенина! За Пашку Васильева! За Колю Тряпкина!»
Встану из-под снега — отряхнуться сил нет. Обледенелым чучелом стою, руки в стороны. Дружки уже дома, щи хлебают. Рязанское поле смотрится в смурь. Домой надо. Мама дома. В груди болит. В валенках хрусткий снег, жжет сквозь носки шерстяные — да, бабушка связала. Мои позвонки во мне. Моя кровь течет. Я пришел из России.
Повстанцы Разина обступили меня — гулебщики, пьянь, — обступили. Они — близкие мои. Трогаю кору — шершаво… Хорошо!
Мишка Лермонт и Пашка Васильев — близкие мои. Каждая строчка покачивается во мне, как ветвь, снегом полная. Качнешь — упадет мягко. Хорошо!
Свет нисходит на меня: митрополит Илларион, протопоп Аввакум, Василий Розанов, Леонид Леонов. Тепло-пожатие мудрецов ладонью ищу, как ребенок руку отца. Зачем ребенка обижать? Верните мне близких моих…
Русь моя, ребра мои. Сердце внутри.
Европа, говорите?
Я знаю Европу. Европа была русским городом. Но Россия никогда не была городом этого окраинного — по сравнению с нашей евразийской льдиной — прибежища разношерстья.
Мне без разницы, кто, когда и что сделал первым. В Греции уже Олимпиады проводились, а мы по деревьям лазили. В Индии Камасутру практиковали, а мы в стожке… И чего, стесняться? Что, у нас дети хуже индийских? Или сопливей греческих?
Иван Грозный убивал. И еще он молился, отмаливал, и замаливал, и сочинял музыку, пока в Европе пошлые правители резали младенцев и жгли женщин и никогда не стыдились этого…
В позапрошлом веке Достоевский был лучше всех европейских сочинителей текста. И Мусоргский, и Чайковский были лучше всех сочинителей музык.
А в прошлом веке — Рахманинов и Свиридов были лучше.
В 1930-е годы Владимир Набоков и Гайто Газданов обошли всех европейских эстетов. Владимир и Гайто — они вкуснее, умнее, изящнее вязкого Пруста.
Потом, в 1970-е, был великий Лимонов — и он был жестче и умней, чем Жене и Пазолини.
Почему Европа? У них евроцентризм: они никого, кроме себя, не узнают и не знают, — но мы-то что?
Советская Россия выплеснула железный поток Серафимовича, дала партизанские повести Всеволода Иванова, одарила Хлебниковым и Платоновым… и завершил солдатский поход дядя Саша Проханов — но это уже сейчас. А тогда… тогда был красный конь — русский конь, оседланный русым мальчиком, и однолицые солдаты и предсмертный комиссар Петрова-Водкина.
Плевать на европейских извращенцев и модернистов — у нас потоки железные и крылышкуют золотописьмом птицы диковинные на длинных ногах…
Мовист Валентин Катаев не уступает ни одному модернисту. Что, передернуло? Так вы и не читали, поди…
И песни Гражданской войны будут звучать. В них — звон, медь, пески сыпучие, запах сырого сукна и пота и новые победы…
В самых страшных войнах мировых победили мы. В мире тысяча национальностей, а победили только русские. И воспели свои победы — в былинах, в песнях, в романах. И хорошо воспели.
Пушкарь Юрий Бондарев фанерен ровно настолько, насколько фанерна звезда на могиле неизвестного солдата, затерянного, закопанного, засыпанного в 1943-м под Сталинградом.
На звезду Родина ляжет тяжелым снегом…
И звезда потрескается и опадет. Но мы не забудем ничего.
Родина моя, родинка на моем запястье, где вена бьет. Сентиментальный, дурной, глупый, русский — так говорю.
Над вечным покоем. Есть такое полотно — «Над вечным покоем». Изба, и кресты, и река течет. И поле. Неизменно и неизбывно. Это — мое, все мое. Не продать, не разменять. Наши покосившиеся избы вросли корнями в землю. Каждая зеница ока упадет в тело моей Родины — больше некуда. Мы сотворены для нее.
Каждый русский писатель хоть немного деревенщик, если он — русский. Вся Россия — деревня, и чуть-чуть рассыпано провинциальных городов.
И одинокий Санкт-Петербург. И заселенная нерусскими Москва. И опять — деревни. Как тут не стать деревенщиком, если в избах над вечным покоем в России живет больше людей, чем в трех европейских странах.
Мы затеряны в снегах и счастливы этим.
Чувствую теплоту и задыхаюсь от бесконечного… и тает на губах.
…В лейтенанте, выбритом до синевы… выкрикнувшем… узнаю.
Русь моя, голоса твои меж ребер — эхом. Сердце внутри. Люблю — и бьется. А разлюблю — и…
Время, вперед! Рядом, время! Мы отцы и дети гениальных песен и книг. Мы пришли из России и уйдем в нее.
Если она нас примет.
2007Наш современник, дай огонька
Приезжая в деревню, читаю подшивки старых журналов. С мазохистским удовольствием — «Огонек» за какой-нибудь 1989 год. С некоторым недоумением — «Наш современник» начала 1990-х.
Публицистические прогнозы и того, и другого издания никакого отношения к реальности не имеют.