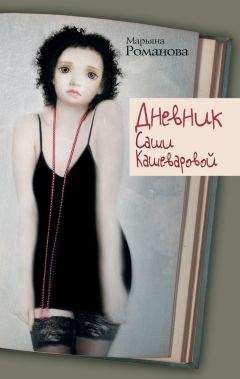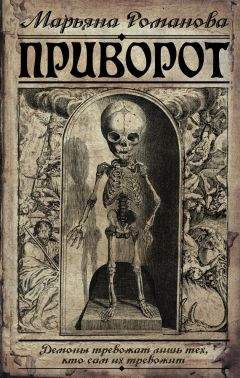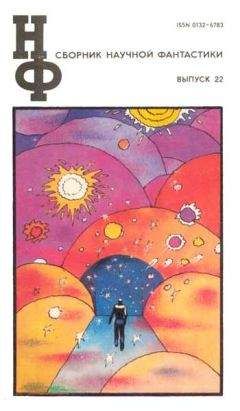Марьяна Романова - Солнце в рукаве
Ничего страшного – всем известно, что у подростков трудный характер.
«У нее был день рождения, И я подарил ей санки. Она сказала, чтобы я забирал свое барахло и проваливал», – обиженно рассказывает условный отец.
Молоденькая любовница сочувственно вздохнет; возможно, пробормочет что-нибудь вроде: «Дети такие жестокие» и поправит лямочку соблазнительного лифчика.
И даже не задумается о том, что «ребенку» – четырнадцать, на санках он не катается уже лет семь, а мечтал о сноуборде, о чем честно и сказал отцу пару месяцев назад. Собственно, тогда и был его день рождения. На который отец-герой не пришел, потому что как раз в это время вывозил молоденькую любовницу на кемерские пляжи.
В общем, отца Марианна не видела больше двадцати лет, да и раньше он появлялся в ее жизни эпизодически.
Вот он стоит на пороге в заснеженной шапке, улыбается как сказочный король, достает из шуршащих пакетов подарки и сладости, а она, Марианна, с визгом носится вокруг папиных ног, как спятивший пудель, – еще чуть-чуть и описается от восторга. Отец поднимает ее на руки, кружит, подбрасывает под потолок. А мать суетится вокруг и брюзжит: опять ты пришел слишком поздно, ей уже пора спать, и куда ты схватил ее в уличной одежде, и зачем принес конфеты, у нее же диатез, ты завоевываешь дешевую популярность, а мне потом лечить. Нытье раздражает и Марианну, и папу – они заговорщицки перемигиваются и запираются в детской.
А потом… Как-то постепенно все сошло на нет.
Уже в двенадцать Марианне хотелось быть взрослой, у нее начала расти грудь и появилась первая губная помада, отца же это почему-то пугало. Наверное, ему казалось, что подрастающая дочь приближает его кончину, а вместе с нею и то, чего мужчины вроде него боятся гораздо больше смерти, – ненужность и половое бессилие. Пока дочь носит банты и ходит с заклеенными пластырем тощими коленками, он – молодой отец трогательного ребенка. А когда она набивает лифчик ватой и томно рассказывает о каком-то десятикласснике, который ей звонит и сопит в трубку, отец – человек другого поколения. Жизнь теперь принадлежит этой зеленоглазой нагловатой девчонке, а вовсе не ему, как он привык считать. У нее теперь музыка, которую он не понимает; одежда, на которую ему тошно смотреть; друзья, которые говорят на другом языке.
– Возможно, я латентная лесбиянка, – однажды заявила отцу тринадцатилетняя Марианна, которая как раз находилась в возрасте естественного желания эпатировать.
А он не понял, вышел из себя, накричал на нее, скомкал встречу. К тому времени они и так виделись не чаще раза в месяц.
Марианну это обидело. Она считала, что отец не имеет права делать ей замечания. Эту точку зрения азартно поддерживала ее мать. «Где он был, когда я лечила тебя от кори? Где он был, когда я работала в две смены, чтобы отправить тебя в пионерский лагерь? Появлялся раз в неделю, отдаривался сраной шоколадкой и уходил к своим девкам. Так ему и передай – ты имеешь право меня видеть, но не имеешь никакого права меня воспитывать».
Марианна так и передала. После этого отец не появлялся в ее жизни полгода. Сначала она переживала, потом привыкла, только осталась какая-то инерционная грусть. Потом они еще раз повздорили по телефону. Марианна хотела попросить деньги на концерт «металлической» группы (ей нравилась не столько тяжелая музыка, сколько мрачные мальчики в клепаной коже), а он сказал, что металл – это вообще не музыка, а какофония, и если он ей что и купит, то абонемент в Концертный зал Чайковского. Тогда Марианна и сказала, нарочито легкомысленно: «Пап, а не пойти бы тебе в жопу?» И больше они не виделись.
Ей было уже за тридцать, когда она случайно узнала, что отца нет в живых, причем довольно давно. Попал под машину, перебегая ночью Ленинградский проспект, – очередная молоденькая любовница отправила его в палатку за мартини.
В сентиментальном порыве Марианна даже съездила на его могилу – с двумя белыми розами и фляжкой виски. С гранитного памятника на нее смотрел чужой отечный мужик с залысинами. Он не был похож на того, в заснеженной шапке, который подкидывал ее вверх, ловил на лету, а потом подкармливал запрещенными конфетами. Он не был даже похож на того унылого и сутулого, которого Марианна послала в жопу, а когда он исчез, плакала от бессильной злости.
Он был совсем чужим, этот умерший в две тысячи втором мужчина, памятник которому был подписан именем ее отца. Он был чужим, и это пугало, но и радовало почему-то тоже.
Марианна положила розы на землю, заботливо взрыхленную чьими-то руками, – наверное, одной из состарившихся любовниц. Выпила виски, наслаждаясь умиротворенной кладбищенской тишиной. И уехала в Москву, и больше в ее разговорах имя отца не всплывало никогда.
В женской консультации было душно. Обшарпанные стены, старые плакаты, рекламные брошюры на журнальном столике. Надя, быстро осмотревшись по сторонам, вжалась в стену и уткнулась в биографию принцессы Дианы. Оказывается, Диана, чтобы ее не подслушали, по ночам бегала звонить в ближайший к резиденции телефон-автомат. Почему-то Надя это ясно видела: настороженная принцесса прячет белокурые волосы под шелковый платок и быстро идет по темным улицам Лондона, прямая, нервная, руки в карманах черного плаща. Хотя, возможно, на самом деле никакого плаща и не было. Но Надя в такой ситуации непременно надела бы платок и плащ.
Другие беременные отчего-то казались пустоголовыми. Они переругивались, пытаясь пролезть без очереди, рассказывали друг другу что-то эксгибиционистски физиологическое: о взбунтовавшейся молочнице, фиолетовых растяжках, акушерках, молокоотсосах. В солнечном сплетении пульсировало горячее раздражение. Хотелось выйти на середину и с азартом миссионера-проповедника на всех наорать: вы что, не понимаете, беременность – это интимно, нельзя о ней так буднично и запросто, и лишь бы кому!
Какая-то бело-розовая молоденькая блондинка в инфантильной футболке с мультяшками скорбно рассказывала соседке, что с ней больше не спит муж. Срок небольшой – всего четыре с половиной месяца. А он боится. Смотрит на нее как на священную корову, творог с рынка носит, поддерживает под локоть, когда она поднимается по лестнице. Подруги говорят – золотой мужик, заботится. А ей хочется, чтобы не заботился, а трахал. Сорвал с нее дурацкий сарафан для беременных и отымел прямо на кухонном столе. Он так делал, когда они только познакомились.
Надя усмехнулась.
Ей самой хотелось как раз, чтобы Данила был заботливым, чтобы демонстрировал понимание. И благодарность. А он вел себя так, словно ничего не произошло, словно Надя – это все та же Надя, «свой парень», самоотверженный кулинар, вечерний собутыльник.