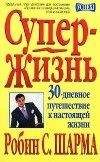Ирвин Шоу - Матрос с «Бремена» (сборник рассказов)
— Ша! — снова пытался утихомирить его отец. — На все Божья воля. В конце концов и им придется пострадать.
— Боже мой! — бормотал Давид. — Боже мой!
— Почему я не уехал в девятьсот десятом году в Америку? — сокрушался отец, раскачиваясь вперед и назад. — Почему я этого не сделал?
Мой дядя Самуил сидел возле окна, с ребенком на руках, поглядывая то на улицу — не идет ли новая толпа, — то на свою жену Сару: она лежала на полу, в углу, вся в лохмотьях, с отрешенным видом повернувшись лицом к стене. Кровь на лице Самуила высохла, но он и не думал ее вытирать, и теперь на его щеке эти крошечные ручейки были похожи на реки на большой карте. Густая борода отчетливо выделялась на худощавом лице, глаза глубоко впали, а на щеках проступили кости челюстей. Время от времени он наклонялся к ребенку и осторожно целовал, стараясь не нарушить его чуткого сна.
Я сидел крепко обнявшись с Элиа, а между нами сидела маленькая Гестер — так нам было всем теплее. Они унесли с собой даже мою куртку, и я весь окоченел от холода. Сидел с широко открытыми глазами, прислушиваясь к шорохам, вспоминая слезы, пролитые вчера ночью, сегодня ночью, и думая о тех, что прольются завтра.
— Спи, спи, Гестер, маленькая Гестер, — тихо говорил я ей, когда она время от времени просыпалась.
Как только она открывала глаза — сразу же начинала плакать, как будто природа создала всех маленьких детишек такими: стоит им проснуться — сразу рыдания.
«Месть, только месть!» — думал я, прислушиваясь к плачу наших женщин; чувствуя, как затвердевают синяки после того, как меня избили; тяжело вздыхая при ходьбе, когда чуть затянувшиеся порезы вновь начинали кровоточить и кровь пропитывала мою липкую от едва засохших сгустков одежду. Я думал только об одном: «Месть, страшная месть!»
— Ну вот, снова идут, — предупредил нас всех дядя Самуил со своего поста у окна рано на рассвете. Мы снова услыхали знакомый гул толпы — она все приближалась.
— Больше я не намерен оставаться здесь! — заявил Самуил. — Пошли они все к черту! Сара, Сара, дорогая моя! — сказал он с такой проникновенностью, с какой редко мужчина произносит имя женщины. — Пошли отсюда, Сара!
Сара поднялась, взяла его за руку.
— А нам что делать? — спросила мать.
Мой отец все неслышно беседовал, задрав голову, со своими ангелами. Я взял командование на себя:
— Пошли посмотрим, не лучше ли на улицах.
Мы тихо, не поднимая шума, вышли через черный ход — двенадцать человек. Самуил нес на руках младенца. Мы медленно тащились по улице, с трудом передвигая ноги в ледяной грязи, прижимаясь к стенам домов; мы шли и шли, стараясь не слышать никаких звуков, напоминающих нам еще о жизни, шарахаясь от уличных фонарей, останавливаясь каждые пять минут, чтобы не устали дети, перебегая через открытое пространство, словно кролики через голое поле.
«Месть!» — только и думал я, ведя за собой свой отряд по далеким, обходным аллеям, прячась за заборами, стараясь обойти стороной огонь, пытки и смерть. Я держал мать за руку.
— Да иди же, иди, мамочка, прошу тебя! — кричал я на нее, когда она либо спотыкалась, либо увязала в липкой грязи и останавливалась. — Нужно, мамочка, нужно!
— Даниил, конечно, само собой, — отзывалась она, крепче сжимая мою руку своими натруженными мозолистыми руками. — Прости, что я все время отстаю! Будь добр, прости меня!
Взошло солнце. Я слушал, как отец сказал:
— Кливленд — я мог поехать в Кливленд. Туда приглашал меня мой дядя.
— Тише ты, папочка! Прошу тебя, ни слова об Америке! — промолвил Давид.
— Да, конечно, — согласился с ним отец. — Само собой. Что сделано, то сделано… На все Божья воля… Кто я такой? — задал он себе вопрос, останавливаясь на секунду и прислоняясь спиной к стене, чтобы чуть отдохнуть. — Кто я такой, чтобы сокрушаться об этом?.. Но все равно, такого в Америке не бывает, и у меня была возможность…
Давид на сей раз промолчал.
Чем больше рассветало, тем труднее становилось избегать толп мародеров. Кажется, эти две ночи в Киеве никто не смыкал глаз, и наш побег все больше бросался в глаза. Дважды нас обстреляли из окон, и нам пришлось бежать по колено в грязи с ревущими детьми, чтобы поскорее добраться до укрытия, за углом ближайшего дома. В третий раз, когда нас снова обстреляли, мой брат, завертевшись волчком, открыв широко от боли рот, беспомощно опустился в жирную грязь.
— Колено! — простонал он. — Они попали в колено…
Мы с матерью оторвали рукав от пиджака отца и перевязали им, как жгутом, ногу Давида повыше коленной чашечки. Отец стоял рядом, растерянно наблюдая за нашими действиями, чувствуя себя как-то странно в пиджаке с оторванным рукавом. Я взвалил Давида на спину, и мы все пошли назад, домой. Он пытался сцепить зубы, чтобы не кричать от дикой боли, и колотил меня кулаками по спине, а я, пошатываясь, все же нес свою ношу, а его раненая коленка все время постукивала по моей ноге.
Вернувшись домой, мы снова все расселись в разрушенной и опустошенной гостиной. Лучи солнца проникали в нее, ярко освещая безумную, незнакомую и просто невероятную картину; все мы в разгар дня сидим на полу. Рахиль с Сарой, закутанные в тряпье, как мумии; отец в пиджаке с одним рукавом; Давид — вторым рукавом замотано его колено; с него градом катил пот, образуя маленькие лужицы на полу. Детишки все сбились в кучу в одном углу и сидели тихо-тихо, внимательно наблюдая за каждым движением взрослых, отражавшихся в их пытливых глазах.
Весь день одна толпа сменяла другую, и каждый раз с их приходом смерть приближалась, уколы штыками становились все глубже, каждый раз проливалось все больше крови. Вечером с Давидом произошла истерика, он впал в транс, у него начались сильные припадки, и мы ничем не могли помочь ему, — мы были вынуждены сидеть и слушать его крики и стоны, да поглядывать с удивлением друг на друга, словно обезумевшие животные в каком-то спятившем зоопарке.
— Можете во всех наших несчастьях винить одного меня, — все время повторял отец. — У меня была возможность, и я оказался не тем человеком, не на высоте. Правда. Я на самом деле далеко не сильный, волевой человек. Я просто ученый. Я не хотел пересечь весь океан и прибыть в страну, где говорят на другом языке. Можете осыпать меня за это упреками. Каждый имеет на это право.
В четыре утра Элиа встал.
— Я ухожу, — сказал он. — Я больше не в силах этого выносить.
Все кинулись к нему, чтобы остановить, но было поздно. Он, увернувшись, выскочил из дома и побежал вниз по улице.
Как только наступила ночь, к дому подошла новая толпа, на сей раз с горящими факелами. Они заполонили весь дом. Все они находились в опасном состоянии сильного возбуждения, в их жилах кипела кровь, перемешанная с виски.
Тщательно обыскали весь дом, но вернулись ни с чем в гостиную, ужасно разочарованные, — абсолютно нечем поживиться.
Они подняли всех мужчин, приставив к каждому из нас по два головореза. Теперь они придумывали новые развлечения. «Ну вот, — подумал я, — и пришло время умирать, вот здесь, на этом месте, — больше ничего не остается». Но я не хотел умирать.
На сей раз мы на самом деле были на волосок от смерти, но вдруг один из этих бандитов громко сказал:
— Ну-ка побрейте его, побрейте этого старого негодяя, этого святошу!
Толпа встретила такое необычное предложение ревом одобрения. Двое выволокли отца, усадили его посередине комнаты, и какой-то толстячок начал ловко брить ему голову своим острым штыком при дрожащем свете факелов. Этот брадобрей все делал старательно, с комичным кривляньем, — он придерживал отца за подбородок изящно оттопыренными пальцами, то и дело отходил, причмокивая языком, от «клиента», чтобы полюбоваться своей работой, а стоявшие у него за спиной подвыпившие подонки покатывались от хохота.
Наконец мой отец расплакался. Слезы потоком лились у него по щекам, падали, поблескивая, на штык, который сбривал его мягкую черную бородку.
Закончив бритье, они бросили отца на пол, а сами ушли в очень хорошем настроении, весело распевая песни. Вновь воцарилась тишина. Отец, с головы которого стекали струйки крови, беспомощно сидел на полу. Бритый, он мне казался каким-то странным, словно голый; рот у него вдруг приобрел мягкие, почти женские очертания, а гладко выбритый подбородок поражал своей непривычной наготой. Он поднял вверх дикие, испуганные глаза, в которых сквозила полная безнадежность, и, по-видимому, о чем-то молил своих ангелов, которых уже больше не считал своей великолепной ровней.
— В следующий раз, — я старался говорить деловым тоном, без лишних эмоций, обращаясь к этим диким, загнанным, дрожащим от страха, как в лихорадке, животным моей семьи, — они непременно поубивают всех нас. Ночью мы все уйдем на улицы. Прошу вас! Послушайте меня, пожалуйста!
Ночью мы вышли из дома. Я нес на спине Давида, а мать вела расстроенного отца за руку.