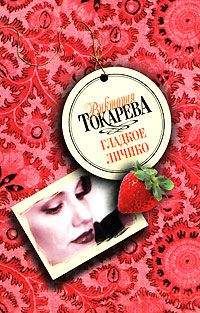Владимир Березин - Свидетель
— Это ваш отец?
И я понял, что он был почти отец, хотя стал давно прадедом.
А когда отец умер, я не плакал. И вообще не плакал, кажется, уж года четыре. А тут, на следующий день после похорон прямо на улице скривился.
И потом ещё несколько раз пытался плакать, да всё выходило как-то не так, я только мычал, да корчил рожи мокрым лицом.
Ну, а тогда мы повезли его в Митино, сквозь жаркий весенний день.
Обратно водитель погнал по какой-то просёлочной дороге в объезд пробок, автобус скакал по рытвинам, и мать сказала:
— Ну вот и прокатились на катафалке с ветерком…
Причём над лобовым стеклом у водителя было укреплено латунное распятие, а симметрично по обе стороны от него были привинчены два двуглавых орла. Похоронные орлы щерились, и будто снова Христос был промеж двух разбойников.
И мать сказала, что так мы хоронили деда, как он жил. То есть так, что ему бы понравилось.
А хоронили мы его весело, хоть наши лица и были залиты слезами.
Это грустная история, и я пишу её, пользуясь поводом, чтобы выговориться. Я ещё не до конца понял, что случилось, и боль ещё будет входить в мою жизнь по частям.
«Человек, сказала моя мать, может быть по-настоящему счастлив, только живя между родителями и детьми». И вот она ощутила своё сиротство, и его, это сиротство, ощутил я.
А дня через два я нашёл нашего черепаха — всё это время черепах угрюмо сидел под его кроватью.
Потом я залез в шкаф. Там висело его пальто. Всё это мне напомнило финал одного из рассказов Бунина. Там женщина возвращается домой после похорон и, прибираясь, видит висящую генеральскую шинель на красной подкладке. «Она сняла её с вешалки, прижала к лицу и, прижимая, села на пол, вся дёргаясь от рыданий и вскрикивая, моля кого-то о пощаде». Всё это напоминает другой рассказ — рассказ О’Генри, в котором редактор, упрекавший писателя за выспренный стиль, тут же начинает им говорить, узнав, что его бросила жена. Однако есть время, когда другого стиля нет, хоть и хочешь этот другой стиль взять откуда-нибудь.
Есть понятие рамки.
Кадр, ограничивающий изображение — это и черный резиновый шнур, прокладка между стеклом и металлом в автобусе, пластиковый корпус, ограничивающий электронно-лучевую трубку телевизора, изображение в кинематографе, что всегда на плёнке ограничено перфорацией.
Оно ограничено примерно так же, как дармовая бумага прошедшего времени ограничивалась перфорацией из, правда, не прямоугольных дырочек, а круглых.
На этой бумаге, траченной вычислительными машинами, запачканной с одной стороны «Фортраном» и «Алголом», написано множество научных статей и, наверное, десятки романов.
В старой фотографии использовались стеклянные пластинки, без всякой перфорации. Однако каждый снимок вклеивался в альбом или повисал на стене — в рамочке.
В этом — разница.
Про это писал в своих дневниках Олеша. Он писал: «Россия — это была фотографическая группа, которую можно было увидеть в чиновничьем доме. Что может быть отвратительней этой домашней реликвии, заключённой в чёрную уступчатую раму с отбитым в верхнем углу треугольником? Почему даже такая вольная вещь, как фотография, сама сущность которой состоит в мгновенности запечатления живой жизни, приобрела в России тяготение к неподвижности, затхлому канону, где законодателем почитался дурак-фотограф, выкатывавший на продукцию свою медали поставщика двора его величества. Почему стриженный ёжиком молодец полувоенного вида в расчищенных сапогах лихо сидит по-турецки на первом плане всех российских групп? Нигде человек не проявляет так откровенно тайных мнений о себе, как в этих группах, где в ту минуту, когда фотограф сказал: „снимаю“, каждый ушёл из сферы внимания соседа и получил возможность на секунду отъединиться и, забыв природную застенчивость, показать воображаемую красоту, только и ждавшую, как бы дорваться до этой секунды.
Головы их подпёрты воротниками тужурок. О, я слышу шум ворса, растущего на этих воротниках, сжигающего самые нежные участки кожи под ушами, слышу, как при каждом движении трещит обмарленный картон внутри, там, куда достигают эти воротники, чувствую, как ходит в петле крючок при каждом вздохе. На головах у них стоят фуражки с приподнятыми твёрдыми полями. Здесь всплывают в сознании затхлые слова, которые, как мне ни биться, подступают к моему словарю…»
Я знаю, о чём говорит Олеша, ещё больше — я это чувствую. И я уже сказал об отсутствии бытовых деталей в самом начале этого повествования. Бытовые детали отсутствовали и на семейных снимках, недаром в штативах и ухватах, которыми удерживали головы в фотоателье, было нечто хирургическое.
Я видел эти штативы, я застал их ещё — в маленьких городах, железные, похожие на приспособления унылых мазохистов. Но теперь нужно рассказать историю о модерне.
Однажды я попал на выставку «Русский Модерн» — с Врубелем, Бенуа, киотами и резным буфетом. Всё это происходило в зале, похожем на плоскую пачку иностранных сигарет.
По выставке ходили посетители будничного дня — мать с чрезмерно развитым сыном лет восьми (он длинно стрижен и мусолит в руках тетрадку для записей). Ребята в свитерах, полубогемные женщины и архитектурные студенты. Девушка в пончо, с распущенными волосами и прокуренными пальцами — совокупление её со спутником кажется вписанным в расписание занятий.
Итак, я, незаметно сделав несколько шагов в сторону, поднялся на балкон и обнаружил там великого Дмитриева, Нордмана — серые, бежевые пейзажи Волги.
Как это у них получалось, мне было совершенно непонятно. Может, дело в нынешнем недовложении йодистого серебра?
Зимний лес на старом снимке, отчётливый до боли в висках, прописанный фотографическим пёрышком, тонкой кисточкой, как лежавший там же под стеклом портрет Бакста.
Дагерротипы. Альбомы в плюше, с золотыми замочками. Девушки в блузках, высоких ботинках на шнуровке, со странными причёсками и странными шляпками. Кавалеры в мундирах, с ярлычками орденов.
Что-то есть странное на этих снимках — отсутствие ракурса, вечный фас серьёзных лиц. Даже собаки на этих снимках сидят офицерами.
А за альбомами лежал толстый журнал с непонятными подписями, глянцевой обложкой, под которой спрятался Синявский, подпирающий гроб Пастернака, Бродский, зажавший ладонью рот, — над мёртвой Ахматовой.
Слово «модерн» приобретало особое значение.
Но душу мою тревожит рассматривание и других, совсем нехудожественных снимков. На крашеных полах стоят женихи с невестами — одни постарше, другие помоложе. Сейчас уже перестали выставлять вперёд руку с часами, сообщая точное время работы фотографа.
Бездомные фотографии, покинутые фотографии.
Деревенские снимки — их я видел в брошенных поселках на Севере. Впрочем, их полно и в Центральной России.
Эти фотографии переворачивает ветер, а лица на них повторяются, повторяются фигуры — в пиджаках, платьях, давнишней военной форме, военной форме нового образца и снова в пиджаках.
В городах они другие. Дедушки, протянувшие руки к своим внукам, те, застывшие на подворачивающихся ножках, школьные стриженые головки, белая рубашка с тёмной кляксой пионерского галстука, размытые туристические свидетельства с наползающим носом байдарки.
В моём шкафу лежит коробка с сотнями метров ничейных старых плёнок.
На них — мой отец, мать, я сам.
Какие-то дома, стоящие, наверное, и поныне — в разных городах, и уже умершие дома. Выловленные рыбы. Кот, собака — чужая случайная живность.
Там сотни лиц, и никто уже не узнает, кто они.
Шестидесятые годы, семидесятые — это любительская история.
Появился профиль и анфас, но главное тут — стол.
Люди, вошедшие в неё, эту историю, как правило, сидят за столами. Рюмка в руке, наколот грибок…
Нет, снимались и у случайных подъездов, загсов, институтских дверей. Но за столом — непременно. Фотографии моей юности — застольные.
Все они без рамок, но пока иные, чем гатчинская фотография довоенного времени. На них ещё не лёг налёт воспоминаний, и, к тому же, фотографий стало больше в мире — как людей и денег.
Застывшее в результате химической реакции движение на гатчинской улице не ограничено рамкой. Оно даже не ограничено временем. Его время длится — там, в тонком слое древней коллоидной эмульсии, среди кристаллов галогенного серебра, всех этих AgBr и AgCl, среди тех процессов, которые там продолжают длиться, как во всяком коллоиде. Географические координаты этого пространства утеряны, есть только длина, ширина и почти полное отсутствие высоты.
В нём безголовая собака продолжает двигаться, занавеска на окне отгибается ветром, а мальчик в шляпке высовывает язык.
Бытописатель
Мальчик стоял у окна, рассеянно глядя на дождь.