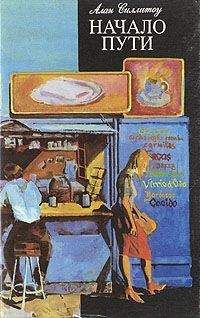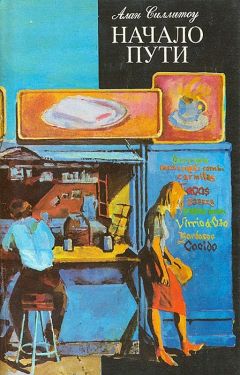Эндрю Круми - Мистер Ми
Зачем же он тогда писал книги? По той же причине, что пишут все, — он хотел донести свои мысли до читателей. Писатели отличаются друг от друга лишь тем, кому они предназначают свои произведения, какую ожидают от них пользу и почему не могут удержаться от литературных занятий.
Знаменитое распоряжение Кафки, чтобы после его смерти все его труды были уничтожены, считается горьким примером противоположного отношения; Оден объяснял это распоряжение замечанием Кафки, что «сочинительство — нечто вроде молитвы». Кафка вроде бы предназначал свои произведения на прочтение Богу; я подумал об этом, когда во время перерыва в заседаниях конференции посетил могилу Кафки в Праге. В моем паломничестве на кладбище не было особого смысла, но само желание было неодолимо и, возможно, так же иррационально, как страсть к сочинительству; во всяком случае, за ним скрывалась одна из тех мотиваций, которые управляют всеми нашими поступками.
Вопреки теории Одена Кафка за свою жизнь опубликовал немало рассказов и даже на смертном одре готовил еще один сборник. Но он не считал неоконченный и неотредактированный труд достойным того, чтобы предстать перед Богом, читателями или вообще кем бы то ни было. Поэтому просьбу Кафки можно рассматривать как высшее выражение добросовестности художника, за которой, в сущности, таится тщеславие.
Кафка считал себя юмористом и иногда, читая рассказ друзьям, чуть не плакал от смеха. Но мы-то, конечно, знаем, что шутки его были очень серьезны. В письме своей невесте Фелиции Бауер, в котором Кафка отказывался разрешить ей быть рядом с ним, когда он работает, он объяснял, что писатель во время работы распахивает себя настежь; в это время он должен быть абсолютно один, ему нужна полная тишина, «ему нужна полная тьма». Кафка мечтал о комнате в подвале, где мог бы работать бесконечно; о камере, к дверям которой ему приносили бы в определенные часы завтрак, обед и ужин, в темноте и одиночестве — где он мог бы создавать труды ужасающей и великолепной силы.
Пруст искал того же в своей квартире: стены кельи, созданной им для себя на Бульваре Османн, были обиты изнутри пробковым деревом. Флобер прятался, как медведь в берлоге, в Круассе; Монтень работал в библиотеке, в башне его родового замка недалеко от Бордо. Однажды мы с Эллен туда съездили: в драгоценной комнате не было ни одной книга, зато полно туристов вроде нас. А Жан-Жак работал в маленьком донжоне, как он его называл, в глубине сада в Монлуи; когда мы с Эллен, приехав в Монлуи, стояли на крыльце этого здания, оно странным образом напомнило мне бетонные укрытия на автобусных остановках, распространенные в Лондоне в тридцатые годы. Через стеклянную дверь мы заглянули в кабинет, где были написаны «Юлия», «Эмиль», «Общественный договор» и другие книги, в которых Руссо утверждал, что научный и культурный прогресс представляет собой падение от чистоты первобытного человека, что человек должен жить не в обществе, а в одиночестве — так же, как жил Руссо, добровольно отправивший себя в ссылку в сельскую местность.
Почему же он занимался сочинительством? Сам Руссо утверждал, что делает это, только чтобы помочь памяти; у него очень слабая память, пишет он, и особенно плохо в ней удерживаются слова и цитаты. Он даже упоминает некую сцену, которую уже где-то записал, а теперь не может вспомнить. Можно подумать, что, записывая прошлое, он просто стремился от него избавиться. Своего рода самотерапия. Однако нет никакого сомнения, что Руссо всю жизнь больше всего жаждал одобрения внимательной аудитории, хотя делал вид, что пишет только для себя.
Гертруда Стайн как-то сказала, что он писал «для себя и для посторонних», — очень глубокое и мудрое замечание. Разумеется, к концу жизни Руссо уже не мог писать для друзей, потому что сумел растерять почти всех, обвинив их в заговоре против себя, который он впервые раскрыл в Монморанси. Возможно, в то время, когда он принялся писать свою автобиографию, Руссо уже жил только для себя и для посторонних, которые познакомятся с ним через посредство его книг. Он уединился в своем ските, там, куда, как говорил Монтень, нам всем надо время от времени уходить — будь то комната позади магазина или башенка в стороне от повседневности, надо уходить туда, где нет обязательств перед близкими, нет связей и имущества — чтобы, когда наступит время все это потерять, мы уже привыкли без этого обходиться.
Монтень восхвалял достоинства уединения; он последовал совету Сенеки и ушел от мира, чтобы писать свои эссе, которые Сент-Бёв гениально назвал лабиринтами, где единственной ведущей нитью является непредугадываемый жизненный путь человека. Пруст выбрал свою жарко натопленную комнату, чтобы воссоздать Сен-Симона и Шатобриана как своих предшественников; но Руссо считал себя единственным в своем роде, как я сказал Луизе на втором собрании нашей «литературной группы».
Молчаливый юноша тоже вернулся, и, когда я снял с полки свою книгу «Ферран и Минар: Жан-Жак Руссо и „В поисках утраченного времени“ и пустил ее по кругу, большинство присутствующих едва в нее заглянули и вернули мне, словно это был какой-то непонятный артефакт древней культуры — выточенный из дерева фаллос, любопытное, но несколько неприличное украшение, которое водрузили на кофейный столик в доме лондонского обывателя.
Так для чего же писал Руссо? Ради славы? Ему это было не нужно: он уже прославился, прежде чем уехал в Монморанси, хотя известность, как и все прочее, может иметь разные значения, когда речь идет о прошлом. Он стал знаменитым в одночасье, получив первую премию за эссе, в котором было тридцать страниц и которое сделало его звездой первой величины в салонах Парижа в возрасте тридцати девяти лет. К тому времени он прожил в Париже уже почти десять лет, уехав из своей родной Женевы и побывав в разных уголках Швейцарии, Италии и Франции. В возрасте тринадцати лет Руссо поступил подмастерьем к граверу; потом был слугой и как-то раз предал девушку, служившую горничной в том же доме, переложив на нее вину за украденную им самим ленточку. Руссо пишет в конце второй книги своей «Исповеди», что начал ее писать, движимый чувством вины по поводу этого случая, хотя тут невольно возникает сомнение, поскольку после этого он написал еще десять книг.
Он зарабатывал на жизнь как учитель музыки, как секретарь дипломата и как «мальчик-игрушка», пожирая еду и целуя кресло своей maman , мадам де Варане. Его затаскивали к себе в постель и женщины, и мужчины, и он рассказывает, что с шестнадцати лет наслаждался самым естественным изо всех существующих удовольствий, так что комментаторы расходятся во мнениях, кому — Руссо или Прусту — воздать почести как первому писателю, который ввел онанизм в сферу художественной литературы.
Руссо прибыл в Париж в 1742 году, надеясь нажить состояние с помощью изобретенной им новой системы нотного письма, что уже говорит о чудаковатости, которая к концу жизни превратилась в умопомешательство. Он сочинял оперы и балеты, сотрудничал в «Энциклопедии». И все это — до того, как он прочел в газете «Меркюр де Франс» об объявленном Дижонской академией конкурсе на тему «Способствовало ли возрождение искусств и наук развращению или очищению нравов?» и написал эссе, в котором утверждал, что искусство и наука могут только развращать. Руссо, несомненно, истолковал бы упоминание Эйхманом на суде Канта как неизбежное следствие чтения литературы и прогресса человеческой культуры.
В свете своей новой теории Руссо решил «переделать» сам себя, стал одеваться просто, отказался от всех мирских соблазнов. Салоны от этого пришли в восторг. Луиза высказала предположение, что он был отцом «антимоды», и, возможно, она права, хотя и здесь мы должны помнить, что понятие «слава» имело другое значение в те дни, когда единственным средством массовой информации была газета и когда пользовавшийся наибольшей популярностью еженедельник «Меркюр» во всей Европе продавался в количество семи тысяч экземпляров. Руссо, по сути, был салонной знаменитостью и заинтриговывал тем, что высказывал мнения, прямо противоположные взглядам людей, именующих себя философами и всячески восхвалявших просвещение и интеллектуальный прогресс.
Но для Руссо этого было недостаточно. Если ты восхваляешь простую жизнь, то тебе надо уехать из Парижа. В этом ему пошла навстречу мадам Д'Эпине, в салоне которой Руссо был самым ярким бриллиантом. Мадам Д'Эпине предоставила в его распоряжение свой домик недалеко от города Монморанси. Здесь Руссо мог воплотить в жизнь свою сельскую фантазию, которой последуют так много его единомышленников и которая принесет ему громкую славу в новом, более широком современном смысле. Возникший культ руссоизма вдохновит Марию-Антуанетту на организацию «пейзанских игр» в Малом Трианоне, и королева совершит паломничество на его могилу на острове Тополей в Эрменонвилле, где Руссо умер в 1778 году. Хозяин поместья, предприимчивый маркиз де Жирарден, назначит плату за посещение могилы, организует выставку вещей умершего писателя и издаст путеводитель по местам, связанным с именем Руссо.