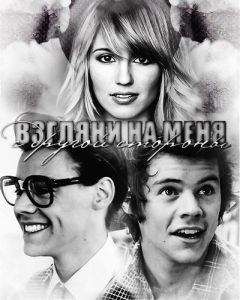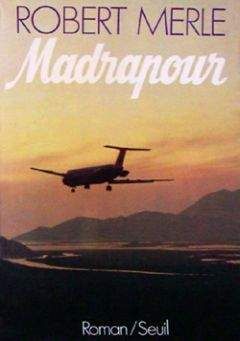Борис Черных - Есаулов сад
– Сказочные места у тебя, Глеб Ильич. Откроем мастерские по камню и дереву, шкуры выделывать начнем, приободрится народ.
– Да кто позволит ремесленничать? Ныне народная жизнь под запретом.
– Сами позволим, – решал Галимов. – А сивых ублажим ухой и рябиновой настойкой. Марья Львовна, благодарствую за вино. Славно огорчило.
Галимов сдержал слово. Выбил средства на ремонт, укрепил дома и подворья, тоннели подчистил. Женщин собрал и уговорил шить на дому малахаи из звериных шкур, оптом сдавал в Пушторг, явилась побочная прибыль. Прибыль вложили в строительство школы. А пришел аппетит – в приступе задумали спортивный зал для пацанов соорудить. Но самое удивительное – в Министерстве путей сообщения выпросил Галимов кредит на строительство дорожного санатория, и поначалу шибко пошло, но скоро все материалы отобрали и отдали БАМу, на нулевом цикле застопорилось дело.
Галимов рвал и метал, писал грозные письма, грозные письма никого не пугали, их, похоже, никто и не читал. Тогда Галимов тихой сапой зазвал проектировщиков-путейцев, показал исток Умары: вот здесь бросить мост на правый берег и положить всего шестьдесят километров полотна до областного центра – так что будем иметь? Проектировщики прикинули. Оказалось, выгода будет немалая. А к пятому году эксплуатации Осеженского участка явится прибыль.
Ах, прибыль! – вскричал Галимов и помчался в Москву, ибо знал, что местным чиновникам страшно задницу оторвать от мягких кресел. И вымолил (можно подумать, для себя старался) строить мост, строить дорогу по правому берегу Умары и восстановить до полной эксплуатационной нормы Осеженский участок.
Вырвав проектную документацию и втиснув в титул на следующий год строительство, явился к Монакову. Прошел по поселку, оглядел в магазине пустые полки, черствого хлеба буханку купил, ущипнул аппетитную Аннушку, а дома у Монакова сделался настырен и ядовит:
– Скажи мне, Глеб Ильич, согласишься мослы свои из уюта выдрать, а? Прямо скажи!
– На хвосте шестидесяти лет работается нелегко, – признался Монаков. – Но ежели народу жизнь облегчить, то почему не облегчить?! За милую душу.
Галимов пригубил чарку, позвал Марию Львовну:
– Не отпускаю Глебушку еще пять лет. Буду приезжать в гости, рябиновое чудо у вас. По рукам, Глеб Ильич и Мария Львовна?!
– По рукам-то по рукам, – отвечала Мария Львовна. – Да пора и на отдых, изработался Глеб Ильич.
– Какой отдых! – возмутился Галимов. – Там бессрочный отдых ждет нас, там. Думаете, я холку не стер? Но старый конь борозды не испортит. И времена надвигаются. Славные времена.
Вскоре по почте прислал Галимов копию официального документа, сургучом залил конверт. Монаков с хрустом вскрыл конверт и, предчувствуя недоброе, погодил читать. Но прочитал – с нового года подступятся к реконструкции дороги, а следом стояло: «Тоннели под охрану отдать вновь», – пять слов вместили то, что Галимов, посылая письмо, не сумел понять, да оно и неудивительно: галимовский опыт не дотягивался до потаенного, пережитого Монаковым в догалимовские времена.
А Монаков забыть хотел бы, да не мог, как за пятьдесят метров, не доезжая до тоннеля, тормозил дрезину, падал по краю полотна ничком и ждал выклика.
– Монаков, ты ли? – кричал с поста часовой.
– Да то я, я! – отвечал путевой мастер.
– Вставай, Монаков, иди! – из-за ветра, из-за снега.
Опытные охранники, привыкнув к дежурному явлению дрезины, шумели издали:
– А, свои! – будто в шести тысячах километров от Москвы, посреди пустынного, промороженного плато, могут быть не с в о и. – Валяйте к такой матери! Глеб Ильич, дай папиросу! На сквозняке не завернешь махорку…
Сам Монаков дурные эти строгости объяснял чрезвычайной важностью его участка для обороны страны. Но все рушилось в голове Монакова, когда Костя – этот был самый лютый – задолго до поста тормозил дрезину и, хотя все как на блюдечке видно, орал благим матом:
– Ложись, Монаков!…
Потом война и послевоенные годы, тоже натужные, погасли дорогу удвинули в горы – Галимов на хозяйственном активе сильным баритоном кричал:
– Монаков! Вот рачительный хозяин! Вот с кого пример надо брать! – и тогда, заслыша свое имя, Глеб Ильич падал лицом в снег.
С годами Глеб Ильич обучился молчать, молчание он сделал правилом и сам диву давался, как сумел Галимов растопить ледок в его сердце. Но и Галимову он верил вполовину, а чаще и ему не верил, как не верил в высокие посулы и слова. Проседая памятью в отжитое, Монаков упрямо полагал правым себя в неверии. Объявили невиданные блага через поколение, Монаков нашел силы усмехнуться, но усмешку скрыл от мужиков. Собрались экономику притулить к закону стоимости и провалили дело. Того и следовало ожидать, про себя сказал Монаков.
Теперь те же захолустные люди, что отобрали жизнь у осеженских мужиков, возгласили свободы и перестройку, – путевой мастер не поверил и тут, да нет, хотел бы поверить, но вот Галимов прислал опечатанную сургучом новость, и руки опустились враз.
Молчал он и сейчас, припав к Костиному плечу и забыв, что плечо – Костино. Присматривался к Павлу. Павел норовист и опытен наследственным опытом, действительную отслужил на вышке. И соблазнится фартовой работенкой – уйдет в сверхсрочники на охрану тоннелей. И мальчик этот, Сергей Юрьевич, падет в свой черед перед красными петлицами… А день высветился высоким шатром над озером и дорогой.
Шатко-валко они перебирались с тоннеля на тоннель, смотрели колодцы и снова качались на рессорном ходу железной телеги, оставаясь каждый со своими мыслями и воспоминаниями, дорога всегда располагает к одиночеству.
Костя тоже думал о своем. Думал на привалах, помогая сыну мотор разбирать, свечи, продувал, рухлядь дрезину ругал – и думал. Думал он о том, что за человек темнокожий этот инженерик? Каков не на вид, тонка кость, а снутри, характером? Почему согласился старшим мастером в наши места? Неспроста согласился, верно, земля слухом полнится.
Если новый с характером, то и слава богу. Ино бедовать Пашке с ним, как Костя бедовал с Монаковым, ловчил после тоннелей к натуре Монакова, но не наловчился. Где надо тому прикрикнуть или согнутым пальцем о мутное стекло в стол постучать – так делал Костин начальник караула. О, это был человек! Восторженный холод забирает при воспоминании. Идешь по вызову и не знаешь, с чем выйдешь. Выйдешь – бегом охота приказ исполнить. А у Монакова сплошная тягомотина, длинный и никудышный разговор:
– Ах, батенька! Давайте-ка лучше обмозгуем еще раз, вместе, – и подступает издали, издали и сначала. Тошно глядеть на такого начальника, не то что работать рядом.
А позор – управленцы наедут с ревизией, пыхтя лазают по завалам и колодцам со сточной водой; кто и зашипит на Монакова, но Косте-то видно, несправедливо шипят. Тут всех и отправить подальше да пешком прогнать с десяток километров. Отказала, мол, дрезина, Костя с великим удовольствием исполнил бы. Но сутулит плечи Монаков. Или приглушенно басит, на управленцев посматривает, в глазах же не гнев, а мир…
Косте повезло с призывом. На комиссии, в сыром здании райвоенкомата, он взорвался, когда определили вслепую воевать, но прибыл на место и поверил истовым внушениям командиров («бди, кругом враги, а тот, кто не враг явный, будет им завтра»). И простоял Костя на тоннелях без малого двенадцать лет.
Случались и ЧП. Тогда служить становилось туго, спрашивали, как с новобранца, а что сверхсрочник – никакой скидки. Хочешь – тяни почетную лямку, а не умеешь – плохо, если не умеешь. Однажды курьерский притормозил за Костиной сторожевой будкой, в тоннеле, но Костя был начеку, затребовал по телефону Урийск, с поста не сошел, не положено: вдруг провокация, враг есть враг. Машиниста взяли тотчас, обвал ему примерещился, ишь какой ушлый. На построении командир объявил Косте благодарность, а позже часы вручили за этот подвиг, Костя часы подарил сыну, когда тот подрос и тоже пошел в армию.
Лучше было служить летом. Смену отстоял, двое суток твои, по грибы и ягоды можно сбегать, сено покосить или за сухостоем в тайгу с мужиками. В последние годы службы поставил Костя избу и корову завел. Молодняк упражняли строевой и стрельбами, запирали по классам на политучебу, а Костя жил вольготно.
Зимой много хуже. Задует верховик, понесет крупой – не вылез бы из тепла, но урочный час – и ничего! – встаешь, шагаешь в круговерть. Если смена дневная, то кроме поездов жди путевых рабочих, а кто из них продался врагу – неизвестно. Не допуская пятидесяти метров, положи по краю, за ветром, чтоб люди не мерзли, и выкликай: «Монаков, ты ли?» – единого раза не позволил себе слабости Костя, высоким сознанием понимая, что на тоннелях может случиться всякое, а у его поста – нет, никогда.
В сильный дождь Костя пускал Монакова под грибок, но сам отходил в сторону, чтобы иметь запас на непредвиденный случай. И Монаков подшепетывал: