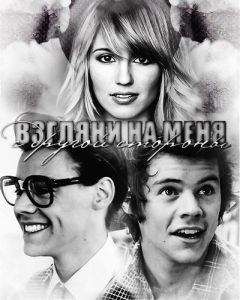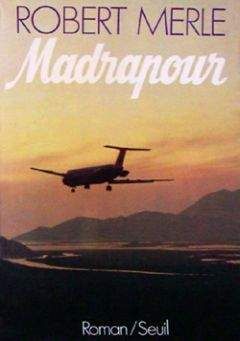Борис Черных - Есаулов сад
Сердце Магомая Муслимова превратилось в льдинку и, растаяв, оплыло под рубашкой к брюкам и в пах.
– Ты джигит или не джигит? Ты весь мокрый, – усмехнувшись, сказала Катерина.
– Джигит, – сквозь стиснутые уста вытолкнул он.
– Сиди тогда молча и береги свое холеное горло.
– Я сижу, – смиренно отвечал Магомай. – Но мне так тоскливо, будто умерла моя тетя в Баку.
– Ты умыкнул меня у города, но тебе показалось этого мало. Ты лишил мой город даже безголосого Тофика. Но ты ошибаешься, думая, что в Урийске можно купить всех и каждого…
Она говорила последние слова, зная, что Венка Хованский остался на поле и будет стоять до конца. О, она снова в эти минуты любила старого трубача. Черт бы побрал эту непредсказуемую женщину!
А Венка продул мундштук и поднял над головой тусклую радугу. Чистый звук упал в тишину, рассыпался на ручьи и клики одичавших птиц, но прошло несколько минут, сошлись в одно русло ручьи, птицы слетелись в стаю, уняв гомон. Мелодия, чуть влажная и строгая, вошла в зал и побрела между столиками.
И все мы поняли, что сколько бы мы не рвали сердце страстями, сколько бы не изощрялись в поисках материальных благ – над городом и миром всегда будет царствовать непризнанный и бедный трубач, гонимый и бездомный. Он уведет нас – в звездный свой час – к лучшему в нас самих, и он вернет нас к малой родине. Да, только малая родина с забытым погостом, только светлые лики детей и внуков стоят того, чтобы длить горечь жизни с ее неминуемым поражением в конце; только Моцарт и Пушкин, Белов и Искандер, обреченные узники, – лучшие наши спутники, а не создатели игр и вульгарных догматов; только белое пятно девятой школы, в стенах ее ты прикоснулся к перепелиному крылу девочки Антонины – чтобы потерять, но и обрести ее навеки…
Знаменитый тенор обвел взором урийцев, и пение одинокой трубы прострелило его грудь – к нему тоже пробилось воспоминание о родине, где каждый мальчишка срывает петушиный голос поутру, подражая ему, Магомаю Муслимову.
В зал вернулся седой ударник, поднялся на эстраду и прошипел Венке Хованскому:
– Ты уволен, блаженный. Ты пошел против нашего дружного коллектива, а это значит – ты уволен. Завтра ищи место в бюро похоронных услуг.
Венка выпевал звездную мелодию. Экая важность – уволен, чтобы не видеть ваших заплывших рук и глаз, но видеть сквозные березы Есаулова сада. Там дом мой, там последнее мое пристанище, и вы никогда не прогоните меня из Есаулова сада, вам не дано от Бога слышать шепот поникших в ненастье дубов и осин.
Знаменитый тенор опустил красивый пробор к столу, вдруг услышав разноголосие бакинских мальчишек, но это было так недолго. Другие, суетные мысли отодвинули мальчишек. Он поднял голову, чтобы продолжить роман с ястребиной женщиной, он не смог ее зауздать, это правда, но еще не все потеряно. Но женщины, которую он не смог зауздать, не оказалось за столом, вольные ветры вынесли ее снова к трубачу. Потрясающее зрелище для изощренного глаза художника. Распустив темную гриву волос, она стояла у ног трубача, а трубач, запрокинув истомленное жизнью лицо, не признавал, но и не гнал заблудшую душу.
Знаменитый тенор встал и пошел из зала, сопровождаемый сострадательными взорами урийцев, урийцы – жалостливый народ, и милиционеры в вестибюле, сострадая, отдали честь знаменитому тенору.
Знаменитый тенор вышел под дождь, слушая под дождем клекот трубы. Потом поднялся в номер на третий этаж. Открыл окно, смотрел на военный плац городской площади, залитой дождем. В дверь поскреблась горничная, присела в книксене:
– Пойди прочь, – сказал он горничной.
Он стоял долго в потемках и рухнул на кровать, чтобы утром, прополоскав горло теплым молоком, снова разбазаривать богоданный талант своей по городам и весям непонятой им страны. Ему, прошедшему школу неаполитанского пения, окажется мало урока, преподанного безвестным трубачом с неотесанным лицом простолюдина.
А Венка Хованский, отслужив вечерю, шел по улицам ночного Урийска. Утробно вздыхала река за городом, принимая дождевые потоки. Венка шел по улицам, его сопровождала маленькая девочка с вздернутым носиком и разномастными глазами. Девочка шлепала по лужам.
– Тата, доню моя, – позвал Венка, и девочка кинулась к нему.
Июль 1988, г. Свободный
Туманятся воды
Монаков уже не спал, когда к нему в комнату ворвался неприбранный Костя.
– Спишь, а дороги нет! – закричал Костя. – Завалило дорогуто! А ты спишь.
– Э, что вы, Костя! Что нам, впервые?
– Да не впервой, не впервой! – Костя взволновался еще сильнее. – Но ехать мне к Галимову, по твоему наказу, или не ехать?
– Надоел я вам, Костя. – Монаков вздохнул и стал одеваться, выпростав ноги из-под одеяла, стесняясь Кости.
Тот, чертыхнувшись, ушел за порог, сел на ступенях крыльца. Монаков стрельнул в окошко на Костю и усмехнулся: ну, посиди, дружок, позлись. Недолго осталось злиться тебе.
Последняя летняя гроза прошла стороной от Осежено, но как раз над откосами, что всегда грозили осыпями и расползались под дождями. Когда-то, четверть века назад, по этой дороге шли курьерские и тяжелогруженые товарняки. Местные женщины торговали на перроне всем, чем бог наградил: грибами солеными, молоком и хариусом. За минуты стоянки пассажиры успевали побродить по поселку, приласкать русоголовых осеженских ребят, что гурьбой бегали за ними, сбывая в поллитровых банках с озерной водой пучеглазых бычков.
В новейшие времена дорогу передвинули в горы, электрифицировали, а Монаков остался на заброшенном участке до пенсии. Выслужив пенсию, Монаков не захотел покинуть обжитые места, старел и запустевал вместе с однопуткой (вместо двух – осталась одна колея), но замены не просил, потому как знал: никто из инженеров-путейцев не поедет в такую глухомань.
Однако всему наступает свой срок, и телефонограмма от Галимова вдруг обязала приветить новичка и отчитаться за весь участок от первого до последнего костыля.
Монаков глянул в окно снова. Рядом с Костей стоял парень, безбровый и скуластый. Во как, неймется и Павлу, Костиному сыну.
Монаков откинул занавеску и попросил Костю дозвониться до Урийска; минуту спустя услышал, как Костя требует отделение дороги, а по селектору идут шумы и кто-то с коммутатора звонко отчитывает Костю. Через весь двор Костя кричит Монакову грубость, грозится уйти с Павлом на весь день косить застоявшийся луг в Черемуховой пади. Тогда Монаков, подпоясавшись узким ремешком, идет звонить сам, но у селектора говорит отцу и сыну:
– Вы на дрезине поезжайте в падь. А понадобится, я с полустанка пошлю за вами. К кому же в семь утра дозвонишься, да еще во время уборочной? Прыткие мы больно.
Костя и Павел, стуча подковками, исчезли за порогом монаковского кабинета. А Монаков, возложив на стол изношенные руки, стал думать о разном, что пережито было здесь за много лет, но думы сместились к одному: кто ты такой, смена монаковская?
Монаков встал, обошел стол, представил за столом новенького и вернулся домой, прилег поверх одеяла. От сна ушел, но глаза прикрыл. И в утренней этой постели впервые настигла Монакова гулкая тишина. Монаков подумал, что все годы по привычке не слышал тишины, а жил прошлым грохотом, – все поезда миновали Осежено, а по отголоскам сознания транзитом, оказывается, шли и шли. Монаков на ощупь достал папиросу, задымил, но табак (Урицкого? Урицкого!) был горек, надо затушить, да окурницу не догадался взять сразу, придется встать. Да, надо встать. Ломота в коленях, но похожу и разойдется.
Он выпил стакан молока, набросил шинель. День развиднелся, туман растаял, испарился. Монаков сказал добрые слова Марии Львовне, жене, и подался на станцию. Костя, оказывается, не поехал в Черемуховую падь, лишь припугивал падью, и, как ямщик лошадку, обиходил заезженную дрезину.
– Помчались, Костя. Почистим дорожку, и поедете за сменой, коли уж вам не терпится прогнать меня, – сказал Монаков и взобрался на телегу.
Обвал оказался обильным, на полсуток. Монаков посокрушался, взял у Гоши Сокольникова лопату, побросал, размялся, подал мужикам пример. А, размявшись, не вернул инструмент Гоше, тот стал носить глыбы в подоле, придерживая руками.
К обеду стая сыновей и внуков принесла из дому огурцы и горячие картофелины, кому и мясцо. Соорудили застолье из шпал, прикрыли лафтаками газет. И уж было сели.
– Эх, выпить бы! – вздохнул Гоша Сокольников, тихий семьянин. – Забыл, как пахнет родимая. А нынче Ильин день.
Гоша томительно посмотрел на Монакова.
– Можно, ребята, и выпить. Отчего бы и не выпить. Ежели к ночи разгребем завал, а?
Ребята качнули головами:
– Кровь из носу, расчистим!
– Костя, две банки, мигом, – Монаков протянул Косте записку для Аннушки, продавщицы, – стало быть, брал ответственность на себя и знал, что не выдадут, потому как свято: воскресенье, Ильин день, могли бы и не работать, а вышли без понуканья и все до единого.