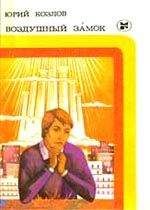Денис Соболев - Иерусалим
— Ну наконец-то, — сказала она, входя и усаживаясь, — я по тебе ужасно соскучилась.
— Да и я.
Она была тонкая, хищная, стремительная, сосредоточенная и элегантная; все как раньше.
— Прости, что я снова опаздываю, — добавила она, заказав кофе, — у меня серьезные проблемы.
— И это не впервой.
— Но на этот раз правда.
— И в чем же дело? — я сделал серьезное лицо, пододвинулся чуть поближе и приготовился слушать. То, что она рассказала, было крайне изобретательным и абсолютно неправдоподобным.
— Так ты подпишешь мне гарантию? — закончила она.
В том, что она меня подставит, я не сомневался ни минуты; да к тому же банковские гарантии я не подписывал никому и никогда.
— Нет, — сказал я, — дело в том, что у меня проблемы с банком, и они мне сказали, что если я подпишу еще хотя бы одну гарантию, они лишат меня возможности брать кредиты, а у меня и так минус.
— Это противозаконно, — ответила она возмущенно, — пойди к ним и потребуй, чтобы они все это отменили.
— Боюсь, что не получится. К сожалению, я уже имел глупость согласиться на эти условия.
Она сжала губы, потом улыбнулась и посмотрела на меня столь выразительно, что у меня не осталось никаких сомнений, что она хочет сказать, что поверила мне в такой же степени, как и я ей. Она всегда была сообразительной девушкой; за что я ее, собственно, и ценил. Впрочем, не только за это.
— Жаль, — сказала она, — жаль, что ты бросаешь друга в беде.
— Угу, — ответил я, разводя руками.
— Да-да, конечно, и вообще ты бы мог хоть раз мною искренне увлечься; а так вот пропадешь, а про тебя и не вспомнят.
Мы действительно давно не виделись, и у нас накопилась масса новостей; хороших и плохих, множество сплетен. Потом, совсем случайно, мы заговорили про «проект», для которого я писал статью о рабби Элише. Оказалось, что с руководителем этого проекта Марьяна хорошо знакома, и, более того, он живет в Иерусалиме.
— Ну и урод, — сказал я, — а что же он делает по жизни?
— Черт его знает, — ответила она. — Я как-то не интересовалась. Вроде собирается диссер писать в университете. Тоже мне занятие для мужика.
— А почему бы и нет? — удивился я.
— Потому что мужик должен семью кормить. Электронщик, как ты, — это я понимаю, или адвокат. Или свой бизнес.
— Не скажи, — ответил я, — в Джойнте и Сохнуте[120] платят вполне серьезные деньги. Хотя заведения исключительно подлые.
— Ну и сколько, по-твоему, ему могут платить? — спросила она.
— Не безумно много, но все же. Тысяч десять — двенадцать.
— Я и не знала, — сказала она медленно и задумчиво, чуть наклонив голову, — что ему платят такие бабки.
— А если бы знала?
— Ну, если бы ты сказал мне это раньше, — она подняла на меня глаза, откинула волосы и стало видно, что она всерьез задумалась.
Мы еще немного поболтали, и она сказала, что заедет ко мне в ближайшие дни, хотя, может быть, и нет. Но мне уже было все равно; знакомая волна равнодушия и брезгливости, которая столь часто накатывала на меня и чьего появления я так боялся, уже плескалась у самых ног. Мне захотелось вернуться к книгам, к роману о рабби Элише, к великому ангелу Метатрону.
— А этого шницеля, — добавила она напоследок, все с той же смесью решительности и задумчивости, — я еще на бабки-то раскручу.
5Она почти сразу поняла, что я ей не то чтобы не поверил, но как-то не принял ее слова всерьез или, еще точнее, не принял их буквально; впрочем, по своему обыкновению, Орвиетта не стала выяснять подробности моих соображений по поводу сказанного ею. Я заметил, что мое равнодушие ее задело, но не счел нужным подыгрывать устроенной ею мистификации только ради желания щадить ее чувства. Да и такого желания у меня не было. Совсем наоборот, будучи задетой, она нравилась мне еще больше; ее глаза загорались, взгляд становился сосредоточенным и напряженным, и я видел, как она медленно подыскивает слова для ответного удара. И хотя я много раз говорил себе, что это всего лишь игра, и обещал не принимать ее слова всерьез, этот удар часто оказывался вполне ощутимым и даже болезненным. Но на этот раз она промолчала. «Молчанием на молчание», — подумал я. Она любила молчать и любила говорить чушь; я часто не мог понять, шутит ли она или говорит всерьез. Возможно, что и она не всегда могла решить это для себя; возможно, что и не пыталась. «Не все, что я говорю, — сказала Орвиетта через несколько дней, — это полная пурга». «Я в этом не сомневаюсь», — ответил я и понял, что она хочет говорить всерьез.
Еще через пару дней она позвонила и сказала, что было бы хорошо, если бы я зашел. Ио ее насмешливому тону я понял, что она настроена серьезно; я еще раз подумал, что мое недоверие ее очень задело. Мы сели на кухне и вскипятили чай; она стала пересказывать мне «Копи царя Соломона», которые недавно перечитала.
— Наверное, хорошо быть зулусом или готтентотом, — сказала она, — а еще лучше жить где-нибудь в Центральной Африке у подножья горы Килиманджаро.
А потом она начала подробно объяснять мне, как здорово было бы реорганизовать университет в соответствии с традициями племени готтентотов; об этих последних, как мне показалось, она не знала решительно ничего.
— Мы бы ходили по университету с копьями и набедренными повязками, — продолжила она, — танцевали вокруг костра и жарили бы профессоров прямо в середине лекций.
Потом она снова заговорила про кровь; я понял, что она хочет, чтобы мы вернулись к тому разговору недельной давности; у меня же не было ни малейшего желания это делать.
— Это очень подло с твоей стороны, — сказала она тогда, сжав губы, — что, заметив во мне маленькую слабость, ты отказываешься верить в ее существование. Но я приготовила тебе сюрприз.
Орвиетта провела меня в спальню и там, на ее широкой смятой кровати без спинок, я увидел голую девицу лет двадцати трех; она лежала вдоль кровати и была мне совершенно незнакома; по ее шее и плечу, тонкой вьющейся лентой, скользила струйка запекшейся крови, собравшаяся в небольшую лужицу на простыне. Я заметил, что ленточка крови начиналась от хорошо видимых, красноватых следов укуса. Девица была стройной и светлокожей, узнаваемой, вполне симпатичной, с пустым лицом, тонкими руками и маленькой грудью; ее голова была откинута; на лице застыла смесь изумления, ужаса и боли. Орвиетта с нежностью погладила ее ногу.
— Она была ужасно классная, — сказала Орвиетта мне чуть растерянно, — и с ней все было ужасно классно; это не один из тех кретинов, которых приводишь себе на субботний ужин.
Я переступил через лежащий на полу пододеяльник и разбросанное нижнее белье, и подошел к девице.
— Видишь на какие жертвы мне приходится идти из-за твоей тупости, — добавила Орвиетта чуть грустно. — Ну теперь-то ты, надеюсь, веришь, что я не всегда шучу.
Я коснулся лежащей девицы; она была неподвижной, одеревеневшей и, несмотря на дневную жару, уже начинала остывать. Неожиданность и изумление опрокинулись на меня, как падающая стая птиц, стены разошлись в стороны; в животе, а потом и в глубине груди, я почувствовал толчки рвущейся назад еды; горло сдавило. Я сжал губы, с бешенством посмотрел на Орвиетту и вышел в коридор, потом в гостиную.
— Странный способ исповедоваться, — сказал я, — и что ты теперь будешь с ней делать?
— Ну и идиотские вопросы ты задаешь, — ответила Орвиетта удивленно, — то же самое, что и с остальными. Полежит и сама исчезнет. Если бы ты иногда читал книжки, ты бы знал, что выпитые тела сами развоплощаются. Они совершенно бесполезны.
Я видел раненых в армии и трупы в горах, но это было совсем другое; я смотрел на белые стены ее маленькой гостиной, на серые плитки пола и голубизну неба в окне и лихорадочно пытался решить, как и что я должен про это думать.
— Впрочем, если хочешь, — продолжила она, задумчиво, — можешь пока ее трахнуть.
Я вышел вон из квартиры, хлопнул дверью и скатился по лестнице.
— Идиот, — закричала мне Орвиетта через окно, — да я же из лучших побуждений.
Цену ее декларациям такого рода я уже хорошо знал.
— Зачем ты это сделала? — спросил я ее по телефону, вернувшись домой и немного успокоившись.
— Я не вижу никакого смысла в дружбе без взаимного доверия, — ответила она, на этот раз вполне серьезно, — а ты перестал мне верить. Мне было важно показать, что я тебя не обманываю.
— Ты хотела меня испугать, убедить, изумить, шокировать?
— Разве я похожа на гуманистку? — ответила она спокойно и чуть задумчиво, — просто всякую страсть, даже страсть к собиранию марок, важно разделить с другом. А на тебе написано, что в этом смысле мы с тобой брат и сестра, даже если ты об этом еще не знаешь. Но скоро догадаешься.
— Разве у тебя в этом городе нет собратьев? — спросил я холодно и почувствовал, что снова задел ее.