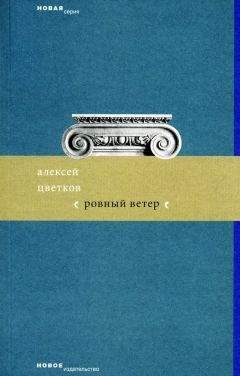Вера Галактионова - Спящие от печали (сборник)
– В тебе самом правда прибывает – или убывает? – спросит его Порфирий тут же, прибавляя внушительного рокота голосу своему. – В тебе прибудет, и в мире прибудет.
– А по мне – чем больше её в нас, тем меньше в мире, – пожмёт плечами сомневающийся человек и на Порфирия поглядит искоса: что значит, не настоящий поп.
– Да ты не слушай меня, голову садовую! – поддакнет ему Порфирий охотно. – Наговорю я тебе семь вёрст до небес. Меня ведь и кормить-то не за что. Подстилку мне в чуланчик тёмный брось, я и переночую на полу, рядом с ведром помойным. Вот, и самая подходящая будет мне компания…
Только недостаток смиренья в нём самом стал сказываться со временем таким мучительным образом, что людские грехи Порфирий начал ощущать всё чаще, как самые скверные запахи. Да, по запаху он различал их теперь поневоле!
* * *Хитрость имела запах сладковатый, химический, тошнотворный необычайно, отчего начинались у Порфирия спазмы желудочные, как от обильного сахарина. Похоть мужская разила душным козлом за версту. От злопамятства тянуло прокисшими, заплесневелыми щами. Людская жадность – тайная, лицемерная, – припахивала тухлым творожком. Высокоумие отдавало аптечной загустевшей цинковой мазью, как если бы Порфирий её не нюхал даже, а ел. Полною ложкой, принудительно, сверх всяких возможностей человеческого организма… Тех же, кто занимался мучительством своих домашних, отличал он по резкому запаху грязной овчины…
Вот, подойдёт к нему, бывало, опрятная молодка, спросить житейского совета. А Порфирия так и обдаст запах разлагающейся человеческой плоти – нестерпимый, трупный, сбивающий с ног. Другим это нисколько не ощутимо, а ему дышать невмоготу. Крикнет Порфирий голосом раскатистым, прежде всякого разговора:
– Скольких русских людей убила ты, Гитлер в юбке? Отвечай! Троих ли истребила во чреве своём?
Отшатнётся молодка:
– Троих, батюшка, – и затараторит, сердечная: – Мне бы молитовку такую, чтоб я прочитала её, сколько нужно раз, а Господь бы мне всё простил. В этом нуждаюсь.
Уставит Порфирий указательный непреклонный палец бабёнке в лоб:
– Какая тебе молитовка? Троих родишь на место убиенных! Теми кровями, родовыми своими, чистыми, омоешься!
– А кормить-то их чем, ещё троих, когда у меня уже двое хоть какой-нибудь еды просят? – ахнет бабёнка, прослезится от беспомощности. – И так от нужды пропадаем…
– От неверия ты пропадаешь, чрево трупоносное! Могила мертвящая – чрево твоё. Носило оно жизнь, но отказалось от природы своей исконной: смерть носить приучилось! Уйди, сказал. Совсем задушила меня «одеколонами» своими… Погоди! Это кто? Муж твой столбом там стоит, головою притолоку подпирает?
А около того и вовсе не продохнуть Порфирию: смрадное дыхание у мужика, никем не замечаемое.
– Да ты не первая, что ли, жена у него? – хмурится Порфирий пуще прежнего, бледнея от головокружения.
– Вторая, – пятится бабёнка.
– Знатный же он военачальник! Приказы отдавал на убиение младенцев, аки Ирод, муж твой долговязый… И той жене отдавал, и тебе… Ты вот что, баба: пятерых рожай, если сдюжишь! Пускай кормит. Себя спасёшь, его очистишь. А не то… Как Ирод хворал и умирал, знаешь ли?
– Нет.
– А ты узнай. И ему скажи: тою же смертию, иродовой, он прежде срока помрёт, от гниения места детородного, детей своих палач… Да не медли, смотри, если муж тебе дорог! Делом, баба, кайся! Не поклонами… Храни вас, Господи, болезных…
* * *Зато девы непорочные, прилежные благоухали едва ощутимо – слабенько, чисто, словно робкое полевое цветенье. Добросовестные жёны замужние приносили с собою запах трав скошенных, лежалых, солнцем припаренных и даже перепревших малость…
Около воинов жертвенных пахло чистым металлом – вроде как хорошей сталью, а то – увесистою обширной кувалдой. От двух генералов, прошагавших как-то мимо Порфирия по своим городским делам, несло, помнится, позеленевшей, рыхлой медью иль бронзой лежалой, нечищеной: купоросный, едкий то был дух… А запах деревенских душ бесхитростных, ясных, бывал иной – свежий и очень Порфирию угодный; корою веяло от них, дубовой, крепкой…
Но когда в одной избёнке, и прибранной, и чистой, находилось сразу несколько самых обычных людей, грешащих густо, мелко, часто, без всякой даже особой нужды, а так, по привычке, уснуть Порфирию никак не удавалось. Даже виски начинало разламывать от удушья. И звоном комариным, назойливым наполнялась бедная его голова – так спорили меж собою запахи невидимой душевной плесени. От иного грешка потягивало куриным сухим дерьмом, от другого – шерстью лежалой, грязной. Веяло от третьего засохшей одинокой забытой портянкой. И часто, часто разило от содеянных чьих-то подловатых поступков кошачьей скудной мочою, хотя никакой кошки и близко не было в дому. Вот как донимали бедного Порфирия людские застарелые прегрешения, совершаемые в избе годами – по тайной зависти, по скаредности скрытной, по злобе мелкой, по себялюбию мстительному, неуёмному…
Он уж и молился при таком ночлеге в чужом, вполне пристойном с виду, углу, и к терпению себя понуждал, и обнюхивал тело своё с пристрастием, чтобы обнаружить у себя самый наисквернейший запах, который оказался бы омерзительней любого прочего!.. Не помогало.
* * *И обличал самого себя бродяга Порфирий из года в год жесточайшим образом, изругивал шепотком последними словами то под одной чужою крышей, то под другой, а всё ж не выдерживал, как должно, по недостатку-то вожделенного смирения: срывался с места.
– Простите меня, голову садовую!
Так пробормочет, низко поклонится всем спящим, да и в путь, на волю, в пургу ли, в стужу; только тут и вздохнёт. И мир вокруг него тогда разворачивался дивный – упоительной свежести и красоты. Шагает Порфирий под луною, прикидывает: похоже, человек, подобный по составу этому природному ясному естеству, должен проходить сквозь любое вредоносное излучение пород совершенно невредимо для себя! Только – чу: не знает Порфирий, искушение ли это, такое тонкое, что и не уловить его грубым сердцем, или истина?
Бежит Порфирий по ночной степи всё быстрее, натягивает войлочную шапчонку поглубже, сильно трёт уши ладонями – отгоняет от себя умствование любое, на всякий случай:
– Прости мне, Всемогущий, непонимание мое: не разумею, как должно! Смирения не обретший, могу ли я верно рассудить?! Прости Порфишку немытого Твоего, аки пса шелудивого, аки хорька смердящего: раздумался что-то не по чину, своих грехов не обоняющий носом привередливым, своевольным, сопливым от широких степных сквозняков да от узкого, тесного рассудка… Аки умственно немощного и блудящего мыслию непрестанно, прости и помилуй мя, Всеблагий…
Ёжится Порфирий на воле – под дождичком, под снегом ли. Кособочится от ветра хлёсткого, свежего, летит вприпрыжку без цели, наобум, с брезентовой торбой за плечом:
– Всемилостивый! Как хорошо!.. И сказано нам, чтобы были мы как дети… В мире, дивно Тобою сотворённом; в трепетном, в благоухающем, наисвежайшем – как дети безхитростные чтобы мы были… Сказано нам. Хорошо!..
* * *Парафиновая свеча где-то рядом, в верхнем ящике комода. Спички должны лежать тут же. Вот они, под Нюрочкиной рукой. В кромешной тьме маленькая вспышка кажется ослепительной. Нитка фитиля пьёт подрагивающее пламя, вбирает его в себя, и спичка, истончённая, обугленная, медленно умирает, отдавая последний истаивающий блик пространству. Зато свеча, угнездившаяся в глиняном грубом подсвечнике, рождает радостный небольшой венчик света. И Нюрочка сонно улыбается, потирая колени. Она сидит на кровати, чувствуя, как её кровь толчками отдаёт грудным железам всё самое питательное и ценное. Саню пора кормить…
Но её Саня спит, отвернувшись. Он только хмурится, когда материнская рука тихонько поправляет пелёнку. Ей, проспавшей бурю и не слышавшей ни уличного грохота, ни страшного воя, жаль будить Саню, хотя часы уже показывают время кормления…
Занавеска окна зашторена не плотно. Заспанной Нюрочке видно со своей кровати, какой стремительный странный снег летит с небес – будто белый ливень хлещет с высоты там, за окном. Снеговое мерцанье в ночи подвижно и трепетно…
Нюрочкина кровь, истощаясь, вбрасывает, вбрасывает в молоко, уже распирающее грудь, жизненные её силы. Самой матери довольно и того, что останется, а молоко накапливается, прибывает, но крошечный Саня спит, словно вслушивается в неведомое, приоткрыв рот.
– Саня… – шепчет Нюрочка в радостном свете свечи.
Она прикасается губами ко лбу младенца с мимолётной тревогой; нет ли жара. Младенец морщит нос, слабо зевает.
– Пора, пора, маленький, – берёт его на руки Нюрочка.
И кормит, сонного, тёплого, прижав к себе…
Небесное снежное молоко струится на мерзлую землю. Оно накапливается, снежное, прибывает – и будет прибывать до самой весны. Но только под солнцем молодая земля начнёт жадно поглощать его, растаявшее млеко небес, чтобы тут же выбросить из себя к свету растущие нежные зелёные побеги мелких трав, а потом и крупных. Из соков земли, напитавшейся небесной влагой, из тёмных отсыревших недр извергнется, поднимется к белому свету сила молодых растений. Так будет не скоро – когда очнётся и засияет горячее солнце.