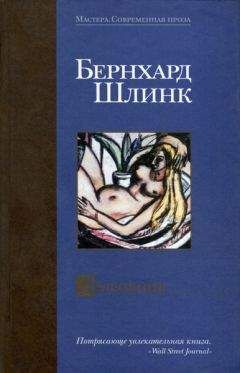Бернхард Шлинк - Любовник
— Как бы ты себя почувствовала, если бы я сказал, что люблю тебя, несмотря на то, что ты еврейка? А мои друзья ищут в тебе еврейское? И они думают, это нехорошо, что я имею дело с еврейкой, но тем не менее прекрасно к тебе относятся? Ты не посчитала бы все это антисемитским бредом? И почему трудно понять, что германофобские предрассудки я считаю таким же бредом, даже если женщина, которую я люблю, и ее друзья…
— Как ты можешь, — она дрожала от возмущения, — сравнивать эти две вещи? Антисемитизм… евреи никому ничего плохого не сделали. Немцы уничтожили шесть миллионов евреев. И то, что это кого-то интересует, когда он имеет дело с одним из вас, — о, какой ты наивный. Или, может, бесчувственный и самовлюбленный? Вот уж скоро год, как ты живешь в Нью-Йорке, и хочешь сказать, не знаешь, что холокост еще жив в памяти людей?
— Но я-то…
— Какое ты имеешь отношение к холокосту? Ты — немец, и, значит, имеешь к нему прямое отношение. И это интересует людей, даже если они слишком вежливы, чтобы спросить тебя об этом. Они слишком вежливы, и, кроме того, они считают, тебе не нужно на это указывать, потому что ты сам все знаешь. И это не означает, что они не оставляют тебе никакого шанса.
Она провела рукой по обивке дивана, на противоположных концах которого они сидели, она, скрестив ноги, он, поставив ноги на ковер и повернув к ней голову. Он разгладил складки на обивке, собрал новые складочки в форме звездочек, вновь разгладил. Встал с дивана, заглянул ей в глаза, посмотрел на ее руки, сложенные на коленях.
— Не знаю, справлюсь ли я с тем, что ко мне прекрасно относятся и любят меня, несмотря на то, что я немец. Тебя возмутило мое сравнение с антисемитизмом. Я сейчас слишком устал, чтобы придумать другое, или слишком сбит с толку — ты, возможно, не понимаешь, но я действительно сбит с толку тем, что меня воспринимают не как реально существующую личность, а как некую абстрактную конструкцию, плод предрассудков, у которой есть шанс, но одновременно над ней тяготеет необходимость все время доказывать свою невиновность. — Он немного помолчал. — Нет, мне с этим не разобраться.
Она печально посмотрела на него.
— Если мы с кем-то встретились на своем пути — как мы можем забыть то, что знаем о его мире, о людях, которые его породили, с которыми он живет? Раньше я думала, речи типичных американцев, итальянцев или ирландцев шовинистичны. Но оно действительно есть, это типичное, и оно присутствует в большинстве из нас. — Она положила свою руку на его, которая продолжала на обивке дивана собирать и разглаживать складочки. — Ты сбит с толку? Ты должен понять: мои друзья и моя семья тоже сбиты с толку тем, что сделали немцы, и они спрашивают себя, что в этом преступлении было типично немецким и что из этого присутствует в том или ином нынешнем немце, в том числе и в тебе. Но они не приколачивают тебя к этому «типичному» крепкими гвоздями.
— Нет, Тина так и делает, и другие тоже. Ваши предрассудки ничем не отличаются от моих, в них есть чуть-чуть правды, чуть-чуть страха, они чуть-чуть облегчают вам жизнь, как те ящички и полочки, по которым вы раскладываете человека. Вы всегда сможете найти во мне нечто, что подтверждает ваши предрассудки: либо то, как я одеваюсь, либо то, как я думаю, или, вот как сейчас, что я смеюсь над твоими дырами.
Она встала, подошла к нему и положила голову ему на колени.
— Я пытаюсь меньше рассматривать тебя с позиций моей культуры, исходя из которой твои выражения… — Она пыталась подобрать нужное слово, чтобы не дать их спору вновь разгореться, — кажутся странными, а больше с позиций твоей культуры. И эту твою культуру я хочу узнать получше.
— Золото ты мое! — Он наклонился, прижался головой к ее щеке, опустил руки ей на плечи. — Мне очень жаль, что я вспылил.
Она чудесно пахла, этот запах кружил ему голову. Они будут любить друг друга. Он радовался этому. Он смотрел на залитые светом окна дома напротив, видел, как там туда-сюда снуют люди. Они разговаривают, пьют, смотрят телевизор. Он представил себе, что о них думают люди из окна напротив. Двое поссорились и помирились. Влюбленные.
10Когда приходит момент признаться себе, что очередная ссора — не просто ссора? Что это не гроза, после которой вновь засветит солнце, не холодное время года, за которым придет теплое, что это просто, как привычно плохая погода? И что примирение ничего не решает и ничего не дает, а только свидетельствует об усталости, означает более или менее продолжительное перемирие, после которого ссоры вспыхивают вновь?
Нет, говорил себе Анди. Я преувеличиваю. Иногда мы не ладим друг с другом и ссоримся, затем опять миримся, и у нас опять все в порядке. Двое любящих всегда то мирятся, то ссорятся, бывает, вообще не разговаривают. Так оно и должно быть. А как далеко заходят ссоры? Тут трудно установить границы. Ведь речь-то не о том, хорошо ли нам вместе или мы просто терпим друг друга. Мы терпим потому, что рядом родной человек, или, наоборот, не терпим, потому что — чужой. Тут вопрос в том, что считать главным — то, что нас разъединяет, или то, что объединяет?
Все утопии начинаются с обращения в другую веру. Люди прощаются с той религией, в которой воспитывались, прощаются с тем, во что верили и чем жили, чтобы однажды в неких утопических проектах обрести новую религию, новое мировоззрение, образ жизни. Это прощание и новое обретение и есть обращение в новую веру, оно не происходит внезапно, как гром среди ясного неба, как неожиданное пробуждение, экстаз или нечто подобное. Конечно, иногда и такое бывает. Но Анди был удивлен, увидев, что этот переход к утопии в большинстве случаев был результатом трезвого жизненного решения тех мужчин и женщин, которые выбрали эту утопию. Любовь, желание жить вместе и невозможность жить одновременно в нормальном мире и мире утопии, надежды на лучшую долю для детей, шансы на успешную карьеру для себя лично — вот что это такое. Недостаточно понимать восхищение утопией, испытываемое другими, и не надо его разделять с ними. А надо просто отказаться от нормального мира, в котором мы разделены друг с другом.
Однажды Анди спросил коллег, с которыми делил офис:
— Если взрослый мужчина хочет принять иудаизм, а сам еще не подвергся обряду обрезания, он обязательно должен его сделать?
Один из коллег выпрямился в кресле и облокотился на спинку.
— Это правда, что европейцы не подвергаются обрезанию?
Другой коллега продолжал сидеть, наклонившись над книгами.
— Конечно, должен. А почему нет? Авраам сам сделал себе обрезание, когда ему было девяносто девять лет. Но решившийся принять иудаизм не должен сам себе производить обрезание; это сделает могель.
— Это врач?
— Нет, не врач, но специалист. Верхняя крайняя плоть отсекается, нижняя подрезается, кожа под головкой оттягивается, и кровь из раны слизывается — для этого врач не нужен.
Анди непроизвольно провел рукой между ног и положил ее на свой член, как бы защищаясь.
— Без анестезии?
— Без анестезии? — Коллега повернулся в его сторону. — Неужели ты думаешь, что мы способны на такую жестокость? Нет, обрезание взрослого мужчины проходит под местной анестезией. Нельзя представить себе еврейского сообщества, которое отказалось бы от обрезания. Правда, в XIX веке некоторые евреи хотели сделать это чисто символическим ритуалом или вообще отменить.
Анди спросил коллегу об источнике его познаний и узнал, что отец того был раввином. Он узнал также, что даже обращаемый в иудаизм, ранее уже обрезанный, подвергается своего рода символическому обрезанию.
— То, что уже обрезано, ты не можешь обрезать вновь. Но совсем без ритуала тоже не годится.
И тут Анди понял. Без ритуала не годится. А ради ритуала надо разрешить мотелю под местной анестезией отсечь твою верхнюю крайнюю плоть и разрезать нижнюю, оттягивать кожу вокруг головки и зализывать рану, предоставлять свое тело на потребу ритуалу, позволить кому-то оголить твой член, тому, с кем тебя ничего не связывает — ни любовь, ни доверие пациента к врачу или приятельские отношения, — позволить ему ощупывать и калечить твою плоть, демонстрировать ее не только могелю, но и раввину и еще каким-то старейшинам, свидетелям, кумовьям. Ты стоишь с опущенными штанами или без штанов, в носках, и ждешь, когда ритуал закончится, а в это время действие анестезии ослабевает и вернувшийся в брюки член начинает болеть, а отрезанная окровавленная крайняя плоть лежит в ритуальной чаше — нет, к этому он не был готов. Если уж обрезание, то он сам себе его организует, так, чтоб не было стыдно и больно. Если уж становиться евреем, то после того, как это позади.
Анди подумал о крещении в купели, о монахинях и рекрутах, которым наголо стригут головы, о татуировке эсэсовцев и узников концлагерей, о клеймении скота. Волосы отрастут, татуировку можно вывести, а в купель тебя погружают, но потом вынимают. Что это за религия, где недостаточно символа посвящения, где посвящение должно оставить неизгладимый физический след? Посвящение, которое головой можно отвергнуть, но тело твое будет вечно хранить ему верность?