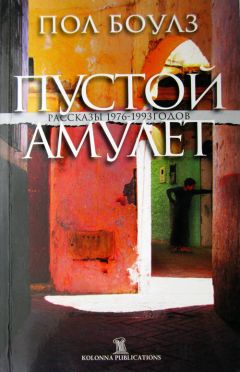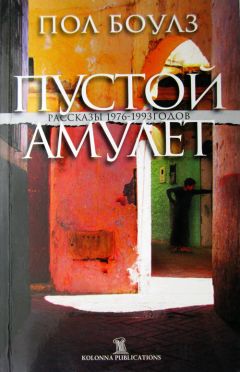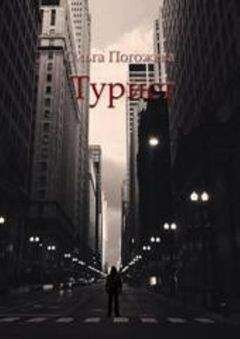Корреа Эстрада - Дом с золотыми ставнями
Нарочный с письмом уехал час спустя. К моей записке Давид добавил еще пару строк для выразительности.
Сеньор появился к обеду – рука на перевязи, бледный, опухший. Столовая встретила его гробовой тишиной. Я подавала на стол – не поднимал на меня глаз, не говорил ни слова. После обеда снова начал пить, под бдительным присмотром Давида, к ужину набрался, как портовой грузчик, после ужина велел остаться.
– Ну что, – спросил он, – с кем ты сегодня хочешь спать, со мной или с этим лысым и вонючим?
У него язык заплетался. Вразумить такого было нельзя, но я попыталась:
– Сеньор, не делайте новых глупостей и не мучьте себя самого.
– Подумайте! Ей меня жаль! Мне не важно, что будет со мной, но тебе, проклятая, тошно будет!
И снова тяжелая дверь закрывается, лязгает засов, сконфуженный босой пастух стоит на пороге:
– Ола, Мухаммед! Я говорила, что еще встретимся.
Только на этот раз никого не видно и не слышно над окошком, и он говорит мне тихонько:
– Может, просто посидим, поболтаем?
И вот мы сидим, подобрав ноги, в разных концах лежанки, и мужчина, застенчиво избегая касаться меня, говорит слова, от которых жжет в сердце.
– Это случилось прямо тогда, когда я тебя впервые увидел, в маслобойне, помнишь?
– Ты меня съел глазами. Думаешь, можно спрятать горящие угли?
– Получалось не очень хорошо, но я старался, как мог. Я был рад за тебя… и за него, потому что вы вдвоем одинаково светились от счастья. Я думаю, Гром поймет все. Но если он не захочет остаться с тобой из-за того, что произошло… Я скажу ему, что он не прав, и заставлю меня выслушать, даже если он захочет поступить по-своему. Я буду для тебя тем, чем ты захочешь меня видеть.
Ты знаешь, что твое тело совершенно? Я счастлив первым сказать тебе это. Ты имеешь в душе равновесие справедливости, ты сочетаешь в себе силу, мудрость и священное безумие, что лишает человека страха. Это даже привлекательнее, чем совершенная красота. Это сочетание ослепляет даже искушенных. Я считал себя искушенным. Я знаю, что ты такое, но люблю не меньше, чем те, для кого ты загадка. Тот, кто узнал тебя однажды, не забудет всю жизнь, ты останешься в крови, будто сладкий медленный яд. Безумный, заперший нас сюда – он тоже отравлен, и не знает, что делает. И я отравлен, и не знаю противоядия. Его, наверно, просто нет.
И снова у меня застревал в горле ком, а в глазах щипало. Я не могла подать ему надежды, а в утешение этот человек не нуждался, с достоинством перенося вою участь. Эти слова растревожили мое сердце, потому что были сказаны от сердца. …Шагов за дверью не было слышно. Дон Фернандо неслышно крался по усыпанному песком полу. Лязг засова и свет фонаря, бледное, безумное лицо на пороге.
Процедил одно слово:
– Ага!
И исчез в темноте.
Я прикусила губу и прислушалась. Тихо… Араб застыл изваянием рядом.
– Давай-ка, дружок, раздеваться. Поболтать нам, похоже, не дадут.
Я еще возилась с тесемками, когда вдруг раздался страшный, пронзительный крик.
Так кричат только от нестерпимой боли. Другой, третий, ближе и ближе. Наконец он ударил в самые уши, заглушая лязг засова.
За дверью стоял Натан и как-то дико щурился. А у него в руках бился, заходясь в крике, какой-то комок, в котором едва я смогла узнать Амор, четырнадцатилетнюю дочку поломойки Луисы. Она была в одной разорванной рубашонке, шея и плечи открыты, и к выступающим острым ключицам храбрый кабальеро Лопес Гусман прикладывал кончик раскуренной толстой сигары – раз за разом… а потом эта сигара вдруг в моих руках и я голыми пальцами раздавила тлеющий табак.
– Дрянь и трус, – сказала я сеньору. Я второй раз в жизни говорила ему "ты" и обращалась с теми же словами, что и в первый раз. – Ты воюешь только с младенцами, взрослая женщина тебе не под силу? Ты добился своего, как и вчера.
Поглядишь, каково тебе будет сегодня! А теперь уходи – вместе с дьяволом, которому ты служишь. Убирайся!
Медленно, задом, дон Фернандо попятился к выходу. Натан исчез еще раньше, испарился непостижимым образом, бросив на полу стонавшую девочку. Дверь карцера осталась не запертой.
Вдвоем мы отнесли девчонку в хижину Обдулии – на детской шее было выжжено нечто вроде варварского ожерелья. Перекинувшись парой слов, решили вернуться назад в карцер – мало ли что. Пробираясь садом, услышали в доме переполох и решили, что сеньор опять буйствует. "Уж лучше пусть вымещает зло на посуде, а не на людях…" Так и заснули под доносящиеся крики, на полу, не раздеваясь.
Наутро, опять до рассвета, пришел Давид и сообщил, что дон Фернандо пытался повеситься… Слава богу, что майораль остался ночевать в доме. Обнаруживший хозяина в петле Маноло только орал благим матом и не хотел до него дотронуться, не то что помочь. Тонкий шелковый шнур был зацеплен за крюк от разбитого накануне канделябра. Сеньор отбросил ногой низенькую скамеечку, но веревка оказалась длинновата, к тому же эластичный шелк слегка растянулся, и незадачливый удавленник, то ли опомнившись, то ли протрезвев, какое-то время стоял на пальчиках, в позе балетного танцора. Едва Давид перерезал шнур, он рухнул как сноп. Тогда-то и поднялись шум и суета, услышанные нами в саду.
– Не знаю, что будет сегодня, – мрачно заключил мулат. – А вы покороче прикусите языки, негры.
День прошел, против ожидания, тихо. Сеньор весь день не брал в рот ни капли, ни с кем не говорил ни слова. После обеда снова велел нас с Мухаммедом запереть, но на этот раз почему-то в моем жилище. Потом велел подать коляску и уехал в Карденас в сопровождении Давида, который бросил все дела и не оставлял племянника ни на минуту одного. Вся усадьба вздохнула спокойно до самого вечера.
Вечером вернулся: оказалось, он пробыл полдня в церкви, молился и простоял два часа на исповеди. Дворня только ахала: "ну и ну!" Однако богу богово, а нас не выпустили. С нами под замком оказался малыш Энрике – без вины виноват. Хозяин про нас словно забыл, и Давид на свой страх распорядился относить нам еду с кухни. Положение было пренелепейшее.
Так прошло четыре дня.
На пятую ночь нашего домашнего ареста явился Факундо. Он получил мою короткую записку: "Произошла много неприятностей. Не задерживайся, когда закончишь дела".
И на обороте – почерком управляющего: "Возвращайся как можно скорее, постарайся приехать незаметно и найди сначала меня". Конюший наскоро постарался закончить все дела, отказался от нескольких выгодных лично ему сделок, требовавших промедления, и сразу же пустился в девяностомильную дорогу. Давида поднял с постели и выслушал его рассказ с горечью, гневом, удивлением: казалось все передумал во время пути, но такого не могла прийти в голову. "Святое небо, он спятил совсем! Зачем ему делать то, что для самого как острый нож!" – "Гром, у него тут единственный резон. Он думает, что ты бросишь девчонку после того, как он уложит его под лысого, тогда ее легче будет обратать". – "Вот так…" – "Сынок, рассчитывают на твою глупость. Не будь же дураком". Факундо изумился. Обращение "сынок", обычное среди цветных, совершенно неожиданно было из уст майораля, человека, чья работа не допускала никакой фамильярности. "Я пойду туда", – произнес Гром, поднимаясь". Майораль не забыл прихватить с собой пистолет.
Как ни тихо щелкнул замок, этот звук нас разбудил. Мы не знали, кто придет, потому-то таким облегчением было услышать приглушенный голос мулата: "Натягивайте штаны, бездельники, это не проверка". Правда, на огромной кровати мы спали одетыми. Присутствие мужа я угадала по неистребимому запаху и хотела вскочить ему навстречу, но Давид велел мне сидеть смирно, а Факундо – зажечь свечу.
Когда затеплился огонек, стало видно, что майораль держит руку на поясе с пистолетом.
Гром это заметил.
– Не бойся, Давид. Драки не будет.
Он протянул арабу руку ладонью вверх, и тот коснулся ее своей ладонью. Давид предупредительно кашлянул:
– Если у вас дело обойдется миром – я пойду посмотрю, все ли спокойно. Скоро вернусь.
– Гром, ты все знаешь?
Невидимо усмехнулся в темноте:
– Что-то вы не больно усердно исполняете хозяйский приказ, как я погляжу.
Мухаммед шуршал в темноте, скручивая сигарку из маисового листа:
– Лишь дурак усердствует, если рядом нет надсмотрщика.
– Конечно; да только не в этом деле. А может, тебе понравилась моя жена? Или была неласкова? А, Мухаммед?
– Я не посмотрю, что ты выше меня на голову, – отвечал тот, – и дам тебе по шее, Гром. Ты не любишь, когда бьют лошадей? Ты не видел, как отделали девчонку Луисы? Все за наше неусердие, брат. Давиду нет корысти врать, спроси у него еще раз, если не веришь.
– Значит дело в одном хозяйском приказе?
– Похоже, ты на меня в обиде. Хорошо, ты имеешь на это право. Хозяин знал, что делал. Давай, взбеленись – он этого-то и ждет. Или, может, он думал, что ее от меня будет тошнить, и она попросится в господскую опочивальню. Может, ее и тошнило, но к нему она не пошла.