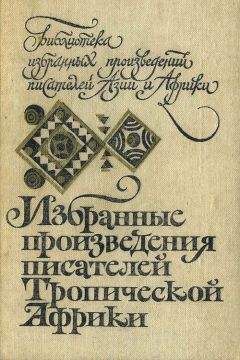Эрвин Штритматтер - Лавка
Американка употребила во зло божий совет: она не затем шила лоскутные скатерти, чтобы доставить радость своим ближним, а затем, чтобы было с кем поговорить. Американка падает духом и говорит тете, что хочет выехать. Она хочет снова к себе в Серокамниц, в свою избенку. Она соскучилась по дому, она тоскует по любви второй своей дочери, нашей сводной тетки Элизы, которую бабушка родила от деда Юришки. И еще она хочет отвести душу в беседах о боге с серокамницким пастором. Пастор Бюксель — сама скромность, он ходит в сандалиях на деревянной подошве.
Моих родителей не привлекают к обратной транспортировке бабушки. Чем меньше народу, тем лучше. Тете Маги и дяде Эрнсту стыдно, что она от них уезжает.
А качалка остается у тети Маги. Они лучше всех знакомы. Тетя Маги трижды ездила с ней в Америку и обратно. Почем знать, может, тетя Маги получает качалку как своего рода компенсацию. Бабушку терзает совесть оттого, что в свое время она просватала Маги за Эрнста.
Разъезжая с бочонком масла, дядя Эрнст зазывает к себе в гости разбитных стекольщиц. Стекольщицы приходят, одна за другой. «Хочете вишенья, хочете слив? — потчует он. — И покататься тоже можете, у нас качалка мериканская». Дядя Эрнст заводит разбитных стекольщиц одну за другой в чистую горницу, чтоб покачались. А тетя Маги тем временем окучивает свеклу на каком-нибудь дальнем поле.
И снова на дворе март-ветродуй, и снова теплынь. Полевые вихри накидывают на себя, как шаль, верхний рыхлый слой почвы и пожелтевшие листья.
— В этим вихри сидят дьяволята. Дьяволята несут полю благодать, — объясняет дедушка.
Я не свожу с поля глаз, я слушаю, я хочу увидеть хоть одного дьяволенка за работой. И не вижу ни единого. Много позже я узнаю, что и мексиканские индейцы верят, будто в вихре сидят духи. Но откуда такое неожиданное родство между суеверием моих сорбских предков и мексиканских индейцев? Видать, все люди мира состоят в родстве между собой.
В общем, мои прапрапрадеды жили не тужили с этими духами ветров. В Босдоме духи приводили в движение крылья ветряка и снабжали мукой, дробленкой, перловкой и манкой всю деревню. В соседней деревне Гулитча они вращали ветряное колесо и орошали помещичье садоводство. Вот суеверные! — браним мы наших далеких предков, а сами воображаем, будто атомные ракеты принесут нам мир.
«Март пыльный — покос изобильный», — гласит крестьянская мудрость. Дедушка показывает мне на вихрь. Вихрь носится над лугом в песчаной шали.
— Примечай, какая трава вырастет на этом лугу, в аккурат на этом.
В марте навозная куча посреди нашего двора начинает расти с небывалой быстротой. Об эту пору вычищают конюшню, и свинарник, и козий закут. Сюда же прибавляется кроличий и голубиный помет. Мы должны досыта накормить наши поля, чтобы и они в свою очередь кой-чего нам подкинули.
Я дорос до новой работы. Уже прошлой осенью, свесив ноги между левым передним и левым задним колесом, я сидел на дне мажары. Рядом, также свесив ноги, сидел дедушка и наставлял меня в искусстве править лошадью.
Я очень быстро усвоил, что надо делать, когда кобыла после выходного дня вдруг заартачится и понесет. Дедушка наставляет и заклинает меня в своей сорбской манере с пришептом: ни при каких обстоятельствах нельзя выпускать вожжи из рук; если стоишь в мажаре, а лошадь пошла рысью либо галопом, нельзя натягивать вожжи; нельзя упряжью раздирать лошади рот; одно нельзя, другое можно и даже нужно.
Я бороню, дедушка — со мной рядом. Я выворачиваю пропашником корневища пырея; а дедушка рядом со мной, все время рядом.
— Я тебе покажу, как это делать, — говорит он, не уставая терпеливо поучать меня. Если в ходе работы между мной и кобылой возникают разногласия, он говорит:
— Коли-ежели кучер с лошадью не поладил, кучер завсегда и виноват, потому как требует, чего лошадь не учила.
Но, с другой стороны, кобыла выучилась у дедушки кой-чему, чего я не знаю, и в свою очередь учит меня. Чудо двояких возможностей проходит через весь мир и всю нашу жизнь.
А теперь я должен править один, должен возить навоз, отец загружает подводу номер первый. Я натягиваю вожжи, подвода трогается. На поле дедушка уже ждет меня. «Гля-кось, — говорит дедушка, — как оно быстро все деется», спрашивает, не пугалась ли кобыла, не хотела ли стать посреди дороги и подкормиться молодой травкой.
Ничего подобного, лошадь шла как положено. Я, когда надо, подгонял ее, а когда надо, придерживал. Возчик я или не возчик?!
Дальше дедушка учит меня, как раскладывать навоз по полю, кучка за кучкой, чтоб на одинаковом расстоянии одна от другой и прямо, как по струнке. К чему, спрашивается, этот парад навозных куч? А это такой неписаный уговор среди крестьянской бедноты — соревнование в аккуратности. Искривленные рядки навозных кучек вызывают смех даже у старушек, которые порой излучают мудрость. Пусть у тебя на дворе навозная куча достает аж до порога — дело твое. Главное, чтобы кучки на поле шагали в строю, все равно как стрелки из Хейерсверда.
Моего отца все время терзает опасение, что крестьяне, в среду которых затесался он, булочник, заглазно поднимут его на смех. Вот почему он денно и нощно бдит, как бы не припоздать с вывозом удобрений либо с севом овса.
А дедушке незачем равняться на других. Он советуется с полем и погодой, с ветром и облаками насчет того, когда лучше начать полевые работы. Пусть другие, черт их подери, равняются по нему, недаром он прошел выучку у лесничего в Блунове.
Когда я заворачиваю во двор с пустой телегой, отец уже загрузил навозом подводу номер два. Я изнываю от желания услышать его похвалу, но он исполнен не похвал, а злобы. Его уже с души воротит от этого неподатливого навоза. А меня, нового возчика, он попросту не замечает. Для него само собой разумеется, что наша кошка Туснельда ловит мышей, само собой разумеется, что я вывожу навоз на сменной телеге.
По сливовой аллее навстречу мне движется баронская чета. По тому, как выпрямлена спина и выпячена грудь женщины, я сразу понимаю, что это они. Они вышли прогуляться, они внимают трелям жаворонка и созерцают сквозь очки с темными стеклами продвижение весны. А вот к чему им темные очки? Год назад у нас было солнечное затмение, и учитель Румпош велел нам смотреть на солнце сквозь закопченное стекло. Солнце было все красное, а с левого боку в виде черного пятна была темень тьмущая, была болезнь, с которой боролось солнце. Мне стало страшно. Подул холодный ветер, солнце больше не излучало силы. Я бы просто заболел, доведись мне долгое время смотреть на солнце сквозь закопченное стекло. Неужели барон с баронессой нарочно хотят заболеть?
Я приветствую их кнутовищем, как заправский кучер! И объезжаю барона с баронессой так, словно это не люди, а деревья с темными очками.
Так я начинаю становиться взрослым мужчиной. От меня разит навозом. По вечерам я умываюсь во дворе на колонке, как всякий, кто имеет дело с навозом.
— Нет, как себе хочете, а мне это не по сердцу, — говорит мать за ужином. — Мал он еще для возчика.
— А коли ему ндравится? — спрашивает дедушка.
— Вот и другие люди говорят, что он еще мал.
Барониха явно перетолковала с матерью.
— Ты, что ли, с ней теперь дружишь, мама?
— Ради бога, никогда так не говори! — Оказывается, наставляет меня мать, госпожа баронесса отнеслась к ней с дружеской благосклонностью. Слово «благосклонность» мать тоже вычитала из романов Хедвиг.
Временами, когда в лавке никого нет, барониха потчует мать рассказами о своем девичестве. Она воспитывалась в пансионе в городе Иена. Тамошние студенты бегали за ней толпой, но ей не дозволялось с ними общаться, потому что они все как один были не comme il faut.
— Мам, а чего это: комельфот?
— Голубая кровь, — отвечает мать.
Ну, насчет студентов мать тоже могла бы много чего порассказать, и она выкладывает свои шёнбергские побасенки.
Так они и болтают: баронесса сверху вниз, мать — снизу вверх, причем мать все это время водит тряпкой по прилавку.
У баронихи зоркие, как у ястреба, глаза. Она ухитряется разглядеть в темноте за прилавком берлинские пирожки с начинкой и любопытствует, довольно ли в них положили варенья. Мать думает, что баронесса хочет купить пирожков. Ничуть не бывало, баронесса просто захотела пристроить следующее четверостишие: Жизнь — это сладкий пирожок, / Начинка — счастья воплощенье, / Но я кляну жестокий рок: / Мой оказался без варенья.
Мать всей душой тянется к оригинальному и неповседневному. И, уж конечно, скармливает это четверостишие своей ненасытной душе. До самой ее смерти, когда на семейных торжествах подают пирожки, я неизменно слышу сперва: Жизнь — это сладкий пирожок…, затем искусственную паузу и в завершение фразу: «Это мне когда еще госпожа баронесса сказала…»