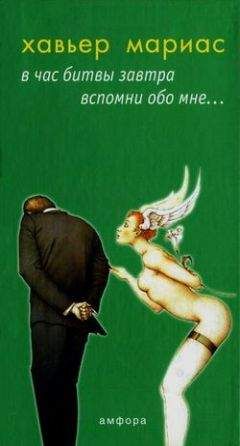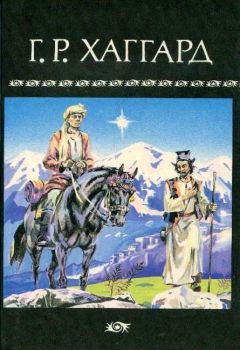Хавьер Мариас - Белое сердце
Я подумал, что могу последить за ним немного — это был способ растянуть ожидание, которое на самом деле уже закончилось. Увидев, что он идет к выходу, я рассчитал, что турникетные двери заглушат звук моих шагов по предательскому мрамору, и двинулся за ним, так же быстро, чтобы не потерять его из виду. Еще в дверях я увидел, как он подошел к ожидавшему его такси, не садясь в машину, расплатился с водителем и отпустил его: погода была хорошая, и он решил пройтись пешком. Он не надел плаща, только перекинул его через плечо (я разглядел, что плащ был бледно-голубого цвета (пижон!)). Свой плащ (обычного кремового цвета) я снимать не стал. По дороге он время от времени бросал взгляд на конверты, потом распечатал один из них, даже не сбавляя шага, быстро пробежал письмо глазами, разорвал и письмо, и конверт и бросил их в ближайшую урну. Я не стал их оттуда доставать: во-первых, мне было стыдно, а во-вторых, я боялся упустить его. Он шел, глядя вперед, такие люди всегда держат голову высоко — это позволяет им казаться выше и придает важности. В правой руке он по-прежнему держал конверты и сверток с кассетой (я уверен, что это была кассета). Присмотревшись, я заметил на безымянном пальце обручальное кольцо — на правой руке, а не на левой, где носят обычно, где уже несколько месяцев и я носил кольцо, к которому начал уже привыкать.
Не сбавляя шага, он вскрыл следующий конверт и проделал с этим письмом то же, что и с первым, только на этот раз положил обрывки в карман пиджака: поблизости не оказалось урны (воспитанный человек!). Он остановился у витрины книжного магазина на Пятой Авеню (магазин Скрибнера, если не ошибаюсь), но ничем не заинтересовался (возможно, ему просто понравился сам магазин) и тут же отправился дальше. Стоя у витрины, он надел плащ (надел, а не накинул на плечи, как делал всю жизнь мой отец и как вряд ли делают американцы, — разве что гангстеры или Джордж Рафт). Я шел за ним на небольшом расстоянии, я был слишком близко, и это было неблагоразумно. Он ничего не подозревал, но шел слишком быстро, останавливался только на красный свет, да и то не всегда — по субботам машин мало. Казалось, он спешил, хотя и не настолько, чтобы не отпускать такси. Было очевидно, что идет он в совершенно определенное место. Возможно, причиной спешки и был тот сверток у него в руках? На обертке, должно быть, не стоял адрес отправителя, только внутрь была вложена открытка. Возможно, «Билл» полагал, что это прислала моя подруга Берта (для него — «ВСА»), возможно, он думал, что держит в руках ее, обнаженную. Он снова остановился, на этот раз у огромного парфюмерного магазина, может быть, у него голов закружилась от доносившегося оттуда запаха в котором смешались все известные в мире ароматы. Он вошел в магазин, и я вошел вслед за ним (я подумал, что, если останусь ждать на улице, это может вызвать подозрения). В магазине не было продавщиц, покупатели бродили сами по себе, выбирали, что хотели, и платили на выходе. Он остановился перед витриной фирмы «Нина Ричи» и там, облокотившись на стеклянный прилавок, вскрыл третий конверт. Это письмо он читал медленно, его он не разорвал, а спрятал в карман своего пижонского плаща (разорванное письмо лежало в кармане пиджака-он был человек аккуратный). Он взял пробный флакончик духов «Нина Ричи» и брызнул себе на запястье левой руки, где не было ни часов, ни чего-нибудь еще. Выждал несколько секунд и осторожно вдохнул запах. Наверное, запах ему не понравился, потому что он перешел к другой витрине, где была выставлена продукция сразу нескольких менее известных фирм. Правое запястье он побрызгал «О де Герлен», — должно быть, брызги попали на его большие черные часы. Через несколько секунд (как и положено знатоку) он понюхал ремешок и, видимо, остался доволен, потому что решил приобрести флакон. Он еще задержался в отделе мужской парфюмерии. Здесь он попробовал пару ароматов на тыльной стороне своих огромных ладоней. Так у него скоро не останется места, не благоухающего какими-нибудь духами. Он выбрал флакон туалетной воды какой-то американской фирмы с именем библейского героя в названии — не то Джордан, не то Джордаш, уже не помню, — хотел, наверное, познакомиться с местной продукцией. Я взял духи «Труссарди» для женщин — женатому человеку всегда пригодится, подумал я (я часто думал о Луисе), и Берте можно было бы подарить, подумал я и взял еще один флакон.
И вот тогда, в очереди в кассу (мы стояли в разных очередях, он был ближе к своей кассе), он повернул голову, увидел меня и узнал. Глаза у него были колючие — я это заметил еще на почте, — и какие-то непрозрачные, как у телезвезд, которые считают себя реальными и значительными, хотя на самом деле они быть такими не могут, потому что всегда смотрят в камеру, а не на человека. Он вышел из магазина и зашагал дальше, а я, несмотря ни на что, пошел за ним, хотя и знал, что меня раскрыли. Сейчас он останавливался гораздо чаще: делал вид, что разглядывает витрины или сверяет свои часы с уличными часами, и оборачивался, чтобы взглянуть на меня, так что мне приходилось для отвода глаз покупать в уличных киосках ненужные мне журналы и хот-доги. Но идти ему было уже недалеко: дойдя до Пятьдесят Девятой улицы, «Билл» быстро свернул налево, и я на несколько секунд потерял его из виду. Уже на углу я успел заметить, как он торопливо взбежал по парадной лестнице роскошного отеля «Плаза» и исчез за его дверью, не ответив на дружеские приветствия швейцаров в униформе. В руках он держал свою кассету и пакет из парфюмерного магазина, а я — журнал, толстенную «Нью-Йорк Тайме», пакет из того же магазина и «хот-дог» Должно быть, он бежал до дверей отеля, надеясь успеть до того, как я дойду до угла и увижу, куда именно он идет. Отель «Плаза» — примечательное название: если обозначить только инициалы, получится О. П. Халат был из отеля, а имя этого человека было не Оскар Перейра.
Обо всем этом я рассказал Берте, умолчав только о своих подозрениях: о том, что это мог быть тот самый человек, который однажды вечером в Гаване заставил ждать и страдать мулатку Мириам с крепкими ногами, большой сумкой и хватающим жестом, женатый мужчина, имеющий больную (а может быть, вполне здоровую?) жену. Берта слушала меня с жадным интересом и плохо скрытым торжеством (она торжествовала, потому что ее затея в конце концов удалась, ведь это она придумала послать меня на Кенмор Стэйшн). Я не смог солгать ей, сказать, что «Ник», «Джек» или «Билл» был уродом: он им не был, и я сказал ей правду. Я не смог сказать ей, что его внешность не внушает доверия, — он был не такой, и я сказал ей правду, хотя мне он и не нравился: не нравился его пижонский плащ, его непроницаемый взгляд, его сросшиеся брови, как у Шона Коннери, его ухоженные усы, подбородок с ложбинкой и звук его голоса, напоминающий звук пилы. Таким голосом он мог говорить о Кубе со знанием дела. Этим голосом он соблазнил Берту. Он мне не нравился. Я подарил Берте первый из флаконов «Труссарди».
Несколько дней мы с Бертой не касались этой темы (она молчала, потому что обдумывала свое решение, а я молчал, потому что не хотел, чтобы она это решение принимала). Это были напряженные дни для переводчиков, работавших на Ассамблее. Однажды мне пришлось переводить речь того самого высокопоставленного испанца, чьи слова я так вольно передавал в тот день, когда познакомился с Луисой. На этот раз я такого себе не позволял (это все-таки Ассамблея ООН!), но, переводя на английский его испанское краснобайство и озвучивая через все наушники его сомнительные идеи, я не мог не вспоминать ту первую встречу и все, что было сказано на ней, когда я так вольно переводил, а Луиса дышала за моей спиной (дышала рядом с моим левым ухом, и это было так похоже на шепот! Она была очень близко, ее грудь почти касалась моей спины). «Люди очень часто любят потому, что их принуждают к этому», — сказала тогда высокопоставленная англичанка. И позднее добавила: «Человеческие взаимоотношения — это всегда клубок проблем, конфликтов, обид и унижений». И еще чуть позже: «Все принуждают всех. При этом мы не принуждаем других делать то, чего они делать не хотят, мы принуждаем только в тех случаях, когда другой человек сам не знает, хочет он того, что нужно нам, или нет, — ведь почти никто не знает, чего он не хочет, и еще того меньше — чего он хочет (последнее просто невозможно знать)», — и продолжила, потому что наш высокопоставленный представитель хранил молчание (может быть, потому, что его утомила эта речь, а может быть, потому, что пытался осмыслить что-то для себя новое): «Иногда их принуждают обстоятельства, кто-то или что-то из их прошлого, их недовольство чем-то, их несчастная судьба. Или что-то, о чем они даже не подозревают, — в душе каждого из нас живет что-то, о чем мы даже не подозреваем, нечто, унаследованное нами с древнейших времен». И еще она сказала: «Иногда я спрашиваю себя: а не лучше было бы, если бы все мы успокоились и умерли? В конце концов, это единственная мысль о будущем, к которой мы постепенно привыкаем, и здесь не может быть ни сомнений, ни преждевременных разочарований». Наше высокопоставленное лицо и тут промолчало, и английская гостья, которая к началу этой осени уже отправилась в отставку и потому не присутствовала на Нью-Йоркской Ассамблее, покраснела: ей стало ясно, что она говорила сама с собой.