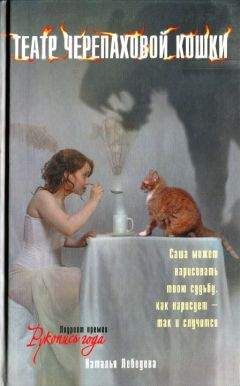Михаил Тарковский - Енисейские очерки
Под вечер, едва он разделся, поужинал и лег на нары, заболело в груди слева. Вскоре добавился какой-то стук, неудобство во всей левой половине груди, которое, разрастаясь, превратило все тело в один огромный пульс. Алексей, перебравший за свою жизнь кучу двигателей, и к своему организму относившийся как к механизму, стал соображать, что за неисправность и как с ней бороться. "Ладно, завтра никуда не поеду, сеть поставлю, отдохну", — решил он, и после колебаний, съел таблетку, — уж очень было досадно за испорченный праздник приезда. Он вспомнил, что нечто подобное было с ним, когда он перезанимался в деревне штангой из тракторных катков.
На следующий день Алексей не спеша встал, стараясь не прислушиваться к себе, съездил поставил сеть, покидал спиннинг. Пока ездил, двигался, на ветру, на холоде ничего вроде бы не ощущалось, но в тепле снова началось вчерашнее, правда слабее. Под вечер он собрался, разделил груз, определил хлеб в ящик, прибитый к елке, чтобы не достали мыши, и до темноты пробродил с тозовкой и спиннингом по берегу.
Во сне Алексей видел Шыштындыр, куда долго пробирался по рекам, пересекавшим друг друга, как дороги. В поселке лежал сухой голубой снежок. По запорошенному дощатому тротуару бородатый парень нес под мышкой кнопочный телефонный аппарат. Алексей открыл рот от изумления, а парень хохотнул и крикнул, кивнув на магазин: "Беги, еще остались. Здесь труба без этого!"
Проснулся Алексей веселым и здоровым. Ветер сменился, поднялись облака, среди них косо пробивалось серебристое солнце. Подморозило. Улово, где стояла сеть, покрылось ледком, который от волны скрипел, выгибался и брался белыми трещинами. Он выпутал щук и сигов, выбрал сеть и поехал в следующую избушку. Река забиралась все выше в хребет, шиверы шли одна за другой. Алексей любил последний поворот перед избушкой, когда река, пенясь, уходит вперед и вверх, и пробираясь меж огромных, обтянутых кипящей водой, камней, долго едешь, спиной чувствуя простор открывающейся дали. Потом, вьехав в черное, забитое пеной и листвяжной хвоей улово, можно оглянуться и увидеть белую изгибом уходящую вниз шиверу и за ней волнистый дымчатый хребет.
Эту просторную избушку, стоящую в начале прямого и широкого плеса, он любил еще больше. Тропка среди упавшей травы, оббитый корень на подъеме, мерзлый мох, ледок на ржавой бочке, толевая крыша, осыпанная желтой хвоей — все было сверхъестественно настоящим, полным какого-то ошарашивающего совершенства. Алексей чувствовал, как возвращаются силы и все встает на свои места. Возле бочки лежали потерянные прошлой зимой плоскогубцы. Взбодренный морозцем он стаскал мешки, перелил из канистры в бочку солярку для ламп. Солярка была белая с лиловым отливом. Потом залаяли собаки в хребте, и он, накинув тозовку, побежал через тундрочку, хрустя снежной коркой, поднялся в лиственничник, где собаки лаяли глухаря. Тот сидел на высоком листвяге и, неуклюже вертя длинной шеей, косился на собак. Алексей выстрелил. Пулька пришлась плотно. Глухарь, шумно колотя крыльями, с хрустом упал в снег. Алексей вернулся, поругивая собак, спустился к лодке, взял спиннинг и перескочив ручей, замер на месте от резкого перебоя в сердце, от которого потемнело в глазах. Он усилием воли устоял на ногах, осторожно развернулся и поднялся в избушку. Началось все сначала, только хуже. Алексей то лежал, то не в силах выносить неподвижности выходил и медленно шел вдоль берега, убеждая себя что от ходьбы становится легче.
На следующий день он лежал на нарах и подсчитывал на сколько дней хватит таблеток. Чтобы потом, когда вернется здоровье, не корить себя за потерянное время, главное было до морозов развести оставшиеся продукты и вернуться в нижнюю избушку, поймать на яме рыбы себе и собакам, а там, если надо, и с чистой совестью отлежаться. Потом отогнать лодку на Молчановский, взять рацию и уйти пешком обратно. Так и пошло: день он лежал, а день ехал дальше, пока не добрался до последней избушки за мощными порогами, которые он еле поднял на своей уже почти разгруженной лодке — настолько сильным было течение после непрерывных дождей. Зимой в этом месте по скалистому берегу сочилась вода и застывала голубыми снопами.
В дальней избушке он снова лежал на нарах с горящей грудью, боясь пошевелиться, щупая пульс и глядя в стену. На желтом протесанном бревне темнела со времен стройки елочка сапожного следа. Он с тоской вспоминал свой тогдашний рабочий запой, как валял лес, таскал бревна, который раз дивясь своей силе и выносливости, и даже с каким-то наслаждением слушая, как похрустывает под здоровенным кедровым баланом косточка на его плече. Так же любил он выламываться и на охоте, особенно по осени, когда не оглубел снег и еще идут собаки, когда проходишь в день километров по двадцать с убитыми глухарями в поняге, с настораживанием ловушек, с беготней к не знамо где лающим собакам и выкуриванием соболей из запусков, когда подходишь к избушке, пошатываясь, и засыпая в тепле под журчание приемника, знаешь что именно такие непомерно длинные дни и запоминаются на всю жизнь.
От подобных мыслей еще сильнее жгло в груди, что-то там шевелилось, взрывалось, колотилось обезумевшим поршнем, каждое движение руки или ноги отдавало в голову, стоял туман в глазах, и свистало в ушах, будто у виска кто-то с силой рассекал воздух прутом, и снова давила Алексея неизвестность — что же все-таки происходит, временное ли это или серьезное и что же делать. Он лежал в ожидании нового приступа и искал в потоке несущихся воспоминаний что-то ясное и прочное, за что можно уцепиться.
Вспомнился один охотник из соседнего поселка — дядя Коля, с которым они были хорошо знакомы по рации, хотя и никогда не виделись. Этим летом, когда ездили по охотничьим делам в Туруханск, заезжали к дяде Коле в Верхнеимбатск, оставляли у него лодку и прочее. Дядя Коля оказался небольшим пожилым мужичком с лысой веснушчатой головой и пучками волос над ушами. В его дворе на них бросился большой старый кобель, которого дядя Коля еле оттащил: "Обождите ребята. Привяжу, а то порвет, совсем спятил. А убивать жалко: кормилец был — поискать". Дядя Коля принял их как родных, выставил бутылку водки, накормил малосольными тугунами, проводил в порт, где они еще некоторое время, сидя на траве, ожидали самолет. Через неделю на обратном пути /возвращались они теплоходом/, дядя Коля встретил их на дебаркадере и снова принял и помог чем мог. Но чувствовал он себя плохо, пить не стал и выглядел усталым и постаревшим, а серый кобель тоже больше не бросался и не лаял, а стоял, пошатываясь, в дверях сарайчика, глядя на них умными грустными глазами, а потом подошел и уткнулся Алексею мордой под ладонь. Дядя Коля спустился с ними под угор, дождался пока они завели барахливший мотор, а потом махнул рукой и медленно пошел в гору. Неслась вода под рыжий нос лодки, глядел алюминий сквозь вытертую краску, а у берега кто-то всей семьей неводил тугуна, над вытянутым неводом прыгала фонтаном серебристая рыбка и бегали вокруг детишки в ярких куртках.
Как-то утром Алексей задержался в избушке заменить водилину у нарточки. На связи уже никого не было, только дядя Коля обсуждал со своей женой хозяйственные дела. Напоследок он спросил, как она спала, а потом, помолчав, сказал: "А я, Мать, замерз сегодня. В спальнике и замерз…"
И Алексей подумал, что он завидует дяде Коле, у которого есть там в деревне его единственная и верная старуха, про которую он хоть и говорит, что она "не понимат ни хрена, тяму нет — в магазине не купишь", но без которой пропадет, потому что нет ничего хуже, чем, когда жизнь кончается, ты неизвестно где и тебя никто не ждет.
2
С той, которая не ждала Алексея и не писала ему почти два года, они встретились давным-давно в городских гостях. За секунду, пока их знакомили, и он смотрел ей в глаза, произошло в воздухе какое-то незаметное движение, и лицо ее стало вдруг предельно привычным и исчезло, оставив только глаза, казавшиеся синими срезами двух таинственных потоков, попав в которые, он будто понесся по какой-то родной дороге, а все вокруг слилось в стремительную серую массу и потеряло значение.
Очнувшись и поняв, что будет теперь изо всех сил и еще не зная как, завоевывать эту Катю, он весь вечер почти не глядел в ее сторону, хотя туда и было направлено все внутреннее напряжение его воли.
Тем временем вниманием гостей владел жгучий бородач необычной судьбы. Несмотря на светский характер застолья, он был в майке с короткими рукавами, обнажавшими очень натренированные бицепсы, подчеркивающие, впрочем, изначальную природную тщедушность их владельца. Вздутые упорными тренировками мышцы с неприятной анатомией обильных лиловых жил, маленькие кисти с нежной кожицей на пальцах, непохожесть этих рук на руки привычных к постоянному труду людей и эти нарочито короткие рукава — все казалось подозрительным Алексею, которого всегда восхищали тихие мужички, спокойно наблюдающие, как срывают рубахи любители померяться силой, а потом нехотя кладущие всех быстрым движением руки, и в бане оказывающиеся буквально обложенными гладкими литыми мускулами.