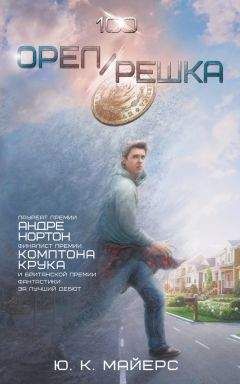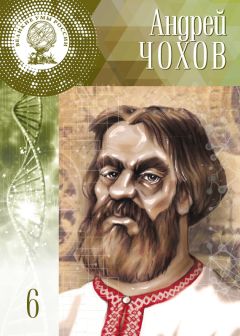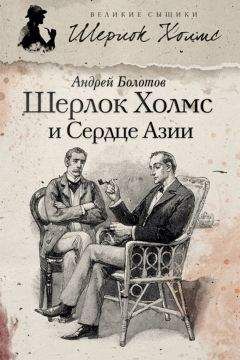Андрей Макин - Французское завещание
В русском переводе, который сохранила моя память, голос Шарлотты добавлял еще, как бы уточняя: «А иногда я говорю себе, что понимаю эту страну лучше, чем сами русские. Потому что столько лет ношу в себе лицо этого солдата… Потому что почувствовала его одиночество там, на озере…»
Она поднялась и медленно пошла, опираясь на мою руку. Я чувствовал, как утихает в моем теле, в моем дыхании тот агрессивный и взвинченный подросток, что приехал вчера в Саранзу.
Так началось наше лето, мое последнее лето с Шарлоттой. На следующее утро я проснулся с ощущением, что стал наконец самим собой. Великое спокойствие, горькое и вместе светлое, ширилось во мне. Мне не надо было больше разрываться между двумя моими «я» – русским и французским. Я принял все.
Теперь мы почти все дни проводили на берегу Сумры. Выходили рано утром, прихватив с собой флягу воды, хлеб и сыр. Вечером, по первой прохладе, возвращались.
Сейчас, когда мы уже знали дорогу, она больше не казалась нам такой длинной. В солнечной монотонности степи мы обнаружили тысячу примет – вехи, скоро ставшие привычными. Гранитная глыба, слюдяные вкрапления которой еще издали искрились на солнце. Полоса песка, похожая на миниатюрную пустыню. Участок, заросший колючками, о которые надо было не зацепиться. Когда Саранза скрывалась из виду, мы знали, что скоро на горизонте вырастет железнодорожная насыпь, блеснут рельсы. А уж переступив эту границу, мы были, можно сказать, на месте – за балками, прорезавшими степь обрывистыми рвами, мы чувствовали присутствие реки. Она, казалось, ждала нас…
Шарлотта усаживалась с книгой в тени ив, у самой воды. Я до изнеможения плавал, нырял, по многу раз переплывая узкую и не очень глубокую речку. Вдоль ее берегов тянулась цепочка островков, покрытых густой травой, где только-только хватало места растянуться и вообразить, что лежишь на необитаемом острове посреди океана…
Потом я лежал на песке и слушал неизмеримое молчание степи… Наши беседы возникали без повода и словно вытекали из солнечного строения Сумры, из шелеста продолговатых ивовых листьев. Шарлотта, уронив руки на раскрытую книгу, глядела за реку, на выжженную солнцем равнину, и начинала говорить, то отвечая на мои вопросы, то интуитивно предвосхищая их своими рассказами.
Именно в эти долгие послеполуденные часы посреди степи, где каждая травинка звенела от зноя и суши, я узнал о прошлом Шарлотты то, что от меня раньше скрывали. А также и то, чего мой детский разум не умел постичь.
Я узнал, что он действительно был ее первым возлюбленным, первым мужчиной в ее жизни – тот солдат Великой войны, что вложил ей в ладонь осколок, называвшийся «Верден». Только они познакомились не в день триумфального марша, 14 июля 1919-го, но два года спустя, за несколько месяцев до отъезда Шарлотты в Россию. Еще я узнал, что солдат этот был очень далек от героя-усача, блистающего медалями, – изделия нашего наивного воображения. Он был скорее худощав, бледен, с печальными глазами. Часто кашлял. Его легкие были обожжены в одной из первых газовых атак. И не из марширующей колонны вышел он к Шарлотте, протягивая ей «Верден». Он подарил ей этот талисман на вокзале, провожая ее в Москву. Он был уверен, что она скоро вернется.
Однажды она заговорила об изнасиловании… Интонация ее спокойного голоса словно подразумевала: «Конечно, ты уже знаешь, о чем речь… Для тебя это больше не тайна». Я подкреплял эту интонацию наигранно небрежными кивками. Я очень боялся, что после этого рассказа, подняв голову, увижу другую Шарлотту, другое лицо, несущее неизгладимое выражение изнасилованной женщины. Но прежде всего вот какая ослепительная вспышка врезалась мне в мозг.
Мужчина в тюрбане и длинном халате, очень плотном и теплом, особенно среди окружающих его песков пустыни. Раскосые глаза, похожие на лезвия бритвы, медный загар круглого, лоснящегося от пота лица. Молодой. Он лихорадочно старается ухватить кинжал, висящий у него на поясе по другую сторону от ружья. Эти несколько секунд кажутся нескончаемыми. Потому что и пустыня, и нетерпеливо шарящий человек увидены крохотной частицей взгляда в щелочку между ресницами. Женщина, распростертая на земле, в порванном платье, с растрепанными, полузасыпанными песком волосами, кажется навек обращенной в принадлежность этого пустого пейзажа. Красная струйка стекает по ее левому виску. Но она жива. Пуля содрала кожу под волосами и ушла в песок. Мужчина изгибается, чтобы достать оружие. Ему хотелось бы, чтобы смерть была более материальной – перерезанное горло, струя крови, впитывающейся в песок. Кинжал, который он пытается нашарить, съехал на другую сторону, когда он только что, распахнув халат, накидывался на раздавленное тело… Он в ярости дергает пояс, бросая взгляды, полные ненависти, на застывшее лицо женщины. Вдруг он слышит конское ржание. Он оглядывается. Его товарищи скачут уже далеко, их силуэты на гребне бархана четко виднеются на фоне неба. Внезапно он чувствует себя странно одиноким: он, пустыня в вечернем освещении, эта умирающая женщина. Он плюет с досады, пинает остроносым сапогом безжизненное тело и с ловкостью каракала вскакивает в седло. Когда стук копыт стихает, женщина медленно открывает глаза. И начинает дышать – неуверенно, словно забыла, как это делается. У воздуха вкус камня и крови…
Голос Шарлотты слился с легким посвистыванием ив. Она умолкла. Я думал о ярости того молодого узбека: «Ему надо было во что бы то ни стало зарезать ее, превратить в безжизненный кусок мяса!» И с проницательностью уже мужской я понимал, что дело было не просто в жестокости. Мне теперь вспомнились первые минуты, следовавшие за актом любви, когда тело, только что желанное, стало вдруг ненужным, чем-то таким, что неприятно видеть, трогать, – почти враждебным. Я вспомнил свою юную подружку на нашем ночном плоту: ведь и вправду я винил ее в том, что больше не желаю ее, что разочарован, что она тут, со мной, прильнула к моему плечу… И, доводя до логического завершения свою мысль, раскрывая до последней наготы этот эгоизм самца, который и пугал, и соблазнял меня, я сказал себе: «На самом деле после обладания женщина должна исчезнуть!» И снова представил себе нетерпеливую руку, нашаривающую кинжал.
Вдруг я рывком приподнялся и обернулся к Шарлотте. Я собирался задать ей вопрос, который мучил меня не первый месяц и который я мысленно формулировал и переформулировал тысячу раз: «Скажи мне – одним словом, одной фразой, – что такое любовь?»
Но Шарлотта, полагая, конечно, что предвосхищает гораздо более логичный вопрос, заговорила первой.
– А знаешь, что меня спасло? Или, вернее, кто… Тебе не рассказывали?
Я посмотрел на нее. Нет, рассказ об изнасиловании не наложил никакой печати на ее лицо. По нему просто перебегало трепетание тени и солнца в листве ив.
Спас ее сайгак, эта антилопа пустынь, у которой такие огромные ноздри, что морда ее напоминает обрубленный слоновий хобот, а глаза – удивительный контраст – большие, пугливые и ласковые. Шарлотте часто доводилось видеть их стада, бегущие по пустыне… Когда ей наконец удалось встать на ноги, она увидела одного такого сайгака, медленно взбиравшегося на песчаную дюну. Шарлотта пошла за ним, не раздумывая, инстинктивно – животное было единственным путеводным знаком среди бескрайних волн песка. Как во сне – в сновиденной пустоте лиловеющего воздуха – она подошла совсем близко к зверю. Сайгак не убегал. В неуловимом свете сумерек Шарлотта увидела черные пятна на песке – кровь. Животное упало, потом, яростно мотнув головой, поднялось, постояло, шатаясь, на тонких дрожащих ногах, сделало несколько неверных прыжков. Снова рухнуло. Оно было смертельно ранено. Теми же людьми, что чуть не убили ее? Возможно. Была весна. Ночи стояли морозные. Шарлотта свернулась в комок, прижавшись к спине зверя. Сайгак больше не шевелился. По коже его пробегала дрожь. Его свистящее дыхание напоминало человеческие вздохи, произнесенные шепотом слова. Шарлотта часто просыпалась, вся занемевшая от холода и боли, и улавливала этот шепот, упорно силящийся что-то сказать. В одно из таких пробуждений, глубокой ночью, она с изумлением заметила совсем рядом какую-то искру, сверкавшую на песке. Упавшая звезда… Шарлотта наклонилась к этой светящейся точке. То был большой открытый глаз сайгака – и прекрасное хрупкое созвездие, отражавшееся в налитой слезами орбите… Она не заметила, в какой момент перестало биться сердце этого существа, дававшего ей жизнь… Поутру вся пустыня сверкала инеем. Шарлотта постояла несколько минут у неподвижного тела, подернутого ледяными кристалликами. Потом стала медленно взбираться на дюну, которую зверь не смог преодолеть накануне. Когда она взошла на гребень, у нее вырвалось короткое «ах!», далеко разнесшееся в утреннем воздухе. У ног ее, розовея в первых лучах рассвета, раскинулось озеро. Этой-то воды и пытался достичь сайгак… Шарлотту нашли в тот же вечер сидящей на берегу.