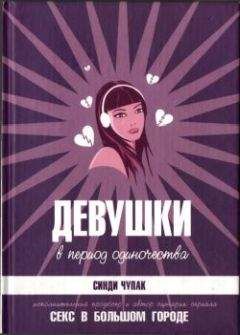Галина Хованова - Среда обитания приличной девушки
Едем, болтаем, тут встает молодая женщина — готовится к выходу. Стоит, держась за поручень, а ее попа совершенно отдельно съела ситцевую широкую юбку. Поэтому юбка висит сзади красиво двумя крыльями. Митяй, не прерывая разговора, делает шаг к даме и дергает за подол, принимающий, наконец-то, сообразное приличиям положение.
Девушка оборачивается и обрушивает на Митяя всю волну своего гнева. Мол, и нахал он, и такой, и сякой, и разэтакий. Раскраснелась, ножкой топала, слова непечатные говорила. После чего отвернулась опять к двери и стоит так с высоко поднятой головой.
Митяй, как настоящий джентльмен, говорит даме:
— Извините меня, пожалуйста! — Делает ладошку дощечкой и аккуратно заправляет юбку в попу обратно.
Хорошо, тут двери открылись, и дама вышла. Мы в институт не пошли.
Работа на ЛОМО начиналась в страшное время — 6.45. Поэтому приходилось выгребаться из дома к первому трамваю, садиться на первый поезд метро и просыпаться уже на пути к заводу. Потом галопировать до проходной, а там под противное зудение заводского гудка пытаться запихнуть пропуск в свою ячейку в огромной стене из плексигласа. В 6.46 сверху с нечеловеческим грохотом падает фанера, намертво закрывающая все ячейки. И ежели ты не успел, то оказался претендентом на вручение Оскара — идешь к начальнику цеха, пишешь объяснительную, а тебе еще грозят пальцем и обещают депремировать.
Зато — платили хорошо. И молоко давали за вредность — я домой приносила. Правда, к концу месячной практики думала, что закукарекаю. Дело в том, что мы с подружкой ненавидели очереди. Поэтому, когда подходило время обеда, мы бежали, конечно, в столовую, но в стайерском режиме. Спринтеры нас опережали, и на нашу долю в обширном заводском буфете оставалось только блюдо под названием «Яйцо под майонезом».
Волшебное, надо сказать. Это было вареное яйцо с фиолетовым желтком и желтоватым белком, разрезанное пополам. Сверху на эту красоту было плюнуто жидким майонезом. Когда в буфете оставался еще и хлеб, мы очень радовались, потому что можно было раздавить яйцо вилкой, перемешать с плевком и намазать на хлеб. Когда хлеб заканчивался, было хуже.
Я-то к тому времени уже токарем успела поработать, мне эти ихние паяльники не страшны были совершенно. Ну и что, что они оловом капают? Прямо на руки? Нам, после печи для обжига стержней, это даже незаметно.
Танюшка, подруга моя, страшная сова. Приходит на работу — и ее тут же кидает в сон. И она кидается. Мордой на коврик.
Трудно потом доказывать бригадиру, что ты совершенно не спал, когда у тебя на щеке, скуле и даже немножко на лбу четко прорисован рельеф из клеточек. И вон, да-да, поближе к носу — даже виден дефект рисунка.
Чем еще та работа была хороша? А курили мало. Потому что на перекур тоже был звонок. Шесть минут — и звонок с перекура. А если бы я там еще поработала, то и вообще бы курить бросила, потому что помещение, отданное под этот порок, было не то чтобы очень большим — метров двадцать, а курящих — человек пятьдесят. А перекур — одновременно.
Но практика кончилась, а я решила еще месяцок поработать там же. Потому что уже привыкла, что деньги, собственными силами заработанные, у меня есть всегда.
Глава пятьдесят восьмая
Конвейер
Но на том хлебном месте, где я так удачно паяла микросхемы, меня не хотели. Потому что отпуска закончились, и народ вернулся на свои законные человеческие места. А мне предложили местечко на месяцок в другом цеху — в сборочном. «Ну, месяц пособираю, что бы они мне там ни предложили собирать!» — подумала я и тут же согласилась, дура. Тут же подписала договорчик, меня взяли за руку и повели.
Мы долго петляли, шествуя по запутанным коридорам между цехов, поднимались и спускались по лестницам, пока наконец не открылась дверь и мы не вошли.
Тут я увидела — о ужас! — конвейер.
Оказывается, я — наивная чукотская девушка — подписала договор, что буду месяц (МЕСЯЦ) принимать участие в некоем ритуале под названием «Сборка изделия — Кинопроектор „Русь“». Это, если кто помнит, в школах такие стояли, в кабинетах географии там или литературы.
Я сопротивлялась, цеплялась за столы, тормозила каблуками. Попытки ухватиться за конвейерную ленту были самыми провальными, потому что ехала она, по моему мнению, очень быстро. Ну, как у Чаплина, помните?
Видимо, им все-таки очень не хватало работника именно на эту операцию. Все мои попытки были пресечены, меня посадили на высокий табурет, дали в руки охренительной длины отвертку и объяснили задачу: вот представьте себе, что в железяке просверлено отверстие глубиной в двадцать сантиметров и диаметром миллиметров пять. В это отверстие нужно бросить сначала шайбочку, потом винтик головкой наверх, засунуть в это отверстие отвертку (поэтому она такая длинная), усилием воли попытаться совместить винтик и отверстие шайбочки, потом резьбу брошенного на произвол судьбы винтика и отверстия, в которое его надо поместить. И завинтить.
И это все надо делать быстро, потому что следующая железяка уже наползает на тебя неумолимо.
Вокруг конвейерной ленты сидят тетки — одни тетки, мужчин в этом цеху не было никогда. На мой вопрос — почему? — мне ответили, что мужики на такой работе спиваются через полгода. Очень уж однообразно.
Я очень старалась. Высунув от усердия язык, я ввинчивала и ввинчивала непокорные железки. Которые никак не хотели совмещаться друг с другом. Самое главное, отвертка никак не хотела совмещаться с прорезями в головке. И тут что? Правильно, винтик выпадает на пол, а я, вместо того, чтобы взять новый, слезаю с табурета и заползаю под конвейер его искать.
Тетка рядом со мной бледнеет, зеленеет, тоже соскакивает с табурета и с тем же сладострастием и скоростью, как первую морковку с грядки, выдергивает меня из-под опасного агрегата. Грозит пальцем — чтобы никогда! Ни за что! Под работающий конвейер! И прыгает обратно на свое место, и начинает с бешеной скоростью орудовать своими инструментами. В результате передо мной возникает завал приехавших от нее единиц продукции.
Блин! Ну мы же тоже не пальцем деланные! Да чтобы я да не смогла! Ни за что. Поэтому первый день я помню очень плохо. Вернее, совсем не помню, как в тумане. Но ленту из-за меня не остановили ни разу, и я не задержала никого.
Пришла домой — спать хочется, сил нет. Тут же плюхнулась на диван, прикрылась пледиком, закрыла глаза — а там винтики, шайбочки, дырка, отвертка, винтики, шайбочки, дырка. Отвертка…
На второй день пошло легче, и я уже смогла осмотреться по сторонам. На конвейере сидят дамы — все в районе моего сегодняшнего возраста — около сорока. Треплются между собой, обсуждают мужей, детей, подруг. Кто-то о похудении — худых там точно не было. Кто-то о кулинарии — что на ужин приготовить. Простые такие разговоры, жизненные.
А мне даже и поговорить не с кем — потому что нечего мне сказать на предложенные темы. А то, что я на развале книжку Каттнера оторвала, — это им неинтересно. И вообще.
У меня заболела голова. Сначала я думала, что это от непривычной работы. Потом я поняла причину и ужаснулась. Потолки в цеху были метров шесть-семь высотой. В самом углу, под потолком, висел транслятор — цеховое радио. И по нему уже пятый раз за день какой-то мудель тянул: «Льдинка, льдинка, скоро ма-ай! Льдинка, льдинка, ну-ка, растай!» В этот день он повторил свой призыв из четырех куплетов с припевами и повторами семнадцать раз. И если на пятый мне хотелось взять какую-нибудь деталь кинопроектора и попытаться-таки добросить ее до радиоточки, то на семнадцатый я уже готова была лезть по вертикальной стеклянной стене как муха, цепляясь за выступы потными ладонями, лишь бы оно замолчало.
Зато работа от злости пошла быстрее. Адреналин выплескивался из ушей, я скрипела зубами и с невиданной быстротой и силою крутила руками.
И всю ночь перед моими закрытыми глазами плыли детали на ленте конвейера, а коварный мозг периодически подвывал: «Льдинка, льдинка, скоро…»
Музыка для меня вообще загадка. Я ее не люблю. Ну, например, в машине я ее редко включаю. Так и еду в тишине, заодно и подумать о чем-нибудь можно.
Вот, например, джаз люблю. Или, например, Цезарию Эвору. Или Щербакова, тоже например. Или Ивасей. И вообще — что хочу, то и люблю. А вот это, как тогда называли, эстраду — с трудом-с.
На следующий день радио с утра молчало. Аж часов до восьми. Только я сосредоточилась на процессе навинчивания винтиков, как оно прокашлялось, два раза пернуло и завело: «Белые розы, белые розы, беззащитны шипы…» Я с размаху стукнулась лбом о ленту. Не помогло, это была не галлюцинация. В этот прекрасный день я семнадцать раз прослушала про беззащитность шипов и поклялась себе, что поэта, срифмовавшего в моем присутствии «розы-морозы», буду душить, пока он не станет цветом, как у Щербакова: «Мотор подъехал чужеземный, фиолетовый…»