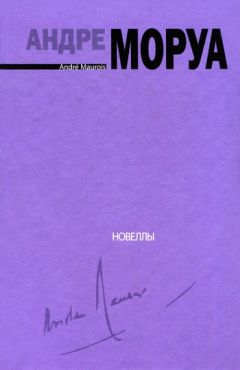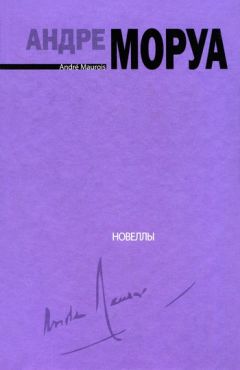Шандарахнутое пианино - МакГуэйн Томас
При первом скребке, совпавшем во времени с первым невольным вздохом сестры, он выгнул шею и посмотрел через плечо. Увидел ее склоненное лицо за широким силуэтом в форме сердца; слезы лились, а она орудовала бритвой, прополаскивая ее, когда та перегружалась кремом для бритья, в лоханке, стоявшей у нее на подносе. Такой эпизод не появлялся ни в одном издании историй про Нэнси Дрю.
Щеки она втянула, и ее лицо было совершенно умоляющим олицетвореньем утраты, скорби, не расписанной по пунктам печали и чего не. Наконец она отерла его глянцевую корму полотенцем, и Болэн погреб сорочку вниз. Сестра оттолкнула его руку и выдавила:
— Нет.
Она разломила резиновое сердце, разбухшее от жидкости, и погрузила его форсунку ему в попу. Держа тяжелый, раздавшийся мешок обеими руками, казалось, она его ему предлагает. Болэн вообразил, что неприглядный предмет этот содержит ледяную воду. Самого его насадили на замерзший сталагмит и тот вгоняли в него, покуда она не извлекла сопло. Он обернулся увидеть ее слезы, но вместо этого обнаружил, что она безмолвно смеется. Это тревожило.
А иначе то стал бы миг для ясной и непосредственной мысли. Ему бы хотелось видеть, во что превратится жест дружбы с медсестрой по отношению кто знает к кому. Но как бы там ни было, стопы его неистово, нетерпеливо запищали по навощенному ведомственному полу. Он исполнил пару сложных маневров — те, что были б незаконны в автомобиле: безрассудных разворотов в особенности, — лишь бы обрулить столы на пути к ванной, где, сидя, совершил крайне катарсический выпуск, словно камеры, мембраны, крохотные переборки и стенки все рухнули разом единым направленным броском.
Когда он закончил, та его тщательная, байроническая грандиозность, кою он был склонен в себе культивировать, совершенно исчезла. И он себя почувствовал, все еще сидя, обычной ссохшейся мухой.
— Я долго спал? — спросил Кловис.
— Долго. Не знаю.
— Как я себя вел? Говорил ли что-то.
— Вы просто лежали и подергивались, как собака.
Вскоре после ужина снова пришла медсестра. Она раздернула штору Болэна, сама внутри, и выделила ему достаточно своей нервирующей улыбко-игры для того, чтоб он замыслил что-то попробовать. Отбросив назад его сорочку, она прошептала ему на ухо:
— Изгваздаете белье, мистер, — и наши отношения насмарку! — Болэн, в восторге, вовсе не слыша слов — уж во всяком случае лишь легкий голосок — и обоняя ее сказочный жасмин из центовки, попытался извернуться и поцеловать ее.
Но она умело заправила сопло ему в анус, поистине спустив из него воздух, и ввела столб жидкости тринадцати футов в длину, хоть и, естественно, не по прямой.
Мгновенье спустя, перехватив взгляд Кловиса, он рванул прочь, и стопы его визжали по твердому полу, как причальные крысы. На сей раз его облегченье себя было прогрессирующим обрушеньем его внутренностей вслед за их опустошавшимся содержимым.
Из палаты до него донесся хохот Кловиса:
— Мэй Уэст! {207} Человек за бортом! Вы о чем там думаете?
— О бомбах.
— Бомбы! — встревоженно произнес Кловис. — Какие бомбы?
Затем, после третьей клизмы, ему уже не пришлось испражняться. Он никак этого понять не мог. Ничего не произошло. Двадцать минут поразглядывав Болэна, Кловис сказал:
— Вы уже сходили?
— Нет.
— Что вас удерживает?
— Мне больше не надо ходить, — раздраженно сказал Болэн.
— Вы не сходили после очистительной клизмы?
— Мне не надо. Это ничего?
— Господи, вот опять что-то новенькое. Не сбегать после очистительной. После того, как ему ее поставили. Ну и ну.
Пять минут молчанья.
— Хотите вихревую ванну? — спросил Кловис. Болэн сосредоточился на нем.
Болэн проследовал за Джеком Кловисом в обширное помещение. Кловис прислонил свои костыли, заковылял и заскакал вдоль высоких стен, залитых флуоресценцией. Комната была однообразной, чистой, тюремно-серой, а в цементе у основания стен бежала канавка. В центре помещения имелся круглый слив, содержавший металлическую вставку, похожую на ту, что у горелки на газовой плите.
В помещении располагалось полдюжины одинаковых вихревых ванн. Уступая возможности, Кловис отрегулировал Болэну ту, что ближе к двери. Нужник по-военному они уже обнаружили. Ванна уже заполнялась прибывавшей водой. Болэн дотянулся и почувствовал, как в его ладонь могуче бьется приятная температура. Кловис ушел готовить свою несколькими футами дальше. Болэн забрался, резко втянув в себя воздух. Он ощущал, как маниакальная чувственность тропической воды накачивает ему плоть, лишает его дара речи. Кловис влез к себе, держась, до побеления костяшек, одной рукой. Болэн погрузился в стискивающее тепло, пока над возмущенной поверхностью не осталась лишь голова.
Мозг его мягко просел в мирное и небесное безразличье. От кружевного пара, восходившего от воды, словно из карового озера друидов, увлажнились глаза. Ум его стал немногим лучше шифра, активирующего амебу и инфузорию-туфельку.
Лишь тогда лабиринт организма начал ставить его в тупик; сперва кишечными сомненьями, каковые, в блаженстве своем, он старался игнорировать; затем чередой схваток, что пробежали по всему его нутру молнией. Игнорировать их было уже слишком поздно.
Он схватился за бока из нержавейки, как будто сидел в качкой шлюпке, и, громко застонав, ощутил резкие спазмы в самой сокровенной, однако властной из всех кишок.
Поглядев вниз, оставивши всякую надежду, он увидел, словно бы сквозь тучку, застившую собой солнце, как вода вокруг него вдруг потемнела. И понял, что случилось худшее.
Он яростно задергал ручки, покуда ванна не отключилась и он не остался сидеть в теперь притихшей жидкости. Мгновенье спустя Кловис, что-то почуяв, осторожно отключил свою, и двое мужчин стали сидеть, а вокруг них ревела новая тишина.
Внезапно Джек Кловис неистово сморщился.
— Боже праведный, Болэн! Что это, во имя всего святого, вы там у себя варите!
Болэн поднялся на ноги — и выглядел при этом, вообще-то, как будто только что вернулся из Майами, города, какой ему не очень-то и нравился. И для того, чтобы оценить шутку, он зашел уже слишком далеко.
18
Доктор Проктор, гранд-манипулятор ректоскопа, инструмента, раскрывающего человеческому глазу просторы, вероятно, запретные (а вероятно — и нет), бездельничал дома, глядя отборочные соревнования по бобслею в «Широком мире спорта» «Эй-би-си». Пухлый синий ковер тетешкал его розовые врачебные пятки, и он, когда ходил по его ближневосточному богатству, делал вид, будто профессия вынуждает его жить среди кишок, потрохов и взбаламученного нутра.
Тут же все было иначе. Здесь, где пучеглазые беспризорники пялились друг на друга с самых ценных его полотен на мягких контурах стен, его тянуло грезить обо всем, чем он больше не был. Затем он понимал, что несколько вял и его как-то слишком уж подмывает чпокнуть парочку амфетаминов из своей солидной врачебной заначки. А потом, когда перестарается, как он сделал сегодня вечером, — снова становился энергичным мальчуганом, как прежде, — смеялся, плакал и быстро цапал себя за промежность тем жестиком спортсмена: дескать, глядите-ка, что у нас тут есть.
Сегодня вечером, слегонца шмыгая носом по улету, Проктор пробрался в потемки комнаты трофеев у себя дома в Ки-Уэст; и еще раз принялся пылесосить сотни смутных задранных ртов своих призов хорошо пользованным «хувером» {208}. Стоя по пояс среди крылатых побед и раззявленных кубков любви, он — отчего-то — знал, кто он такой.
Частенько в таком настроении воображенью его представлялась его медсестра, частенько же — вознамерившись свершить какое-нибудь извращение, которого Проктор обычно измыслить бы не мог. Вновь и вновь, с другой стороны, она возникала нагишом и елозила сверху по громадному трубопроводу, покрытому не содержащим жира растительным саломасом. Такую мысль нельзя бы претерпеть без дальнейшего облегчения; и для предстоящего серьезного дела наставал и не проходил черед его мелких рывков запястьем самого себя.