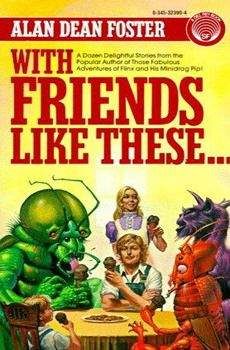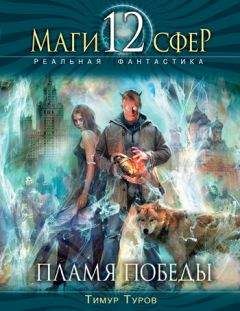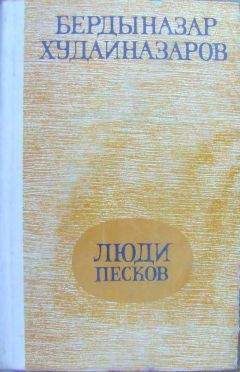Петр Проскурин - Имя твое
— Знак, знак божий, — жевала бабка воздух беззубым ртом, не в силах собрать воедино расколовшийся на куски привычный мир и порядок; она боязливо обошла собственный рундучок, выбралась через поваленный плетень на улицу; ноги сами понесли ее к подруге, куме Чертычихе, затем подряд из избы в избу, и только перед вечером, окончательно умаявшись, она, обойдя все село, попросилась, натолкнувшись на возвращавшуюся с работы Варечку Черную, заночевать у нее; уже начинало темнеть, духота усилилась, жаром несло от земли, от стен, от трав и деревьев с мягкими, бессильно обвисшими листьями. Варечка, проведя бабку Салтычиху в избу, тотчас почувствовала неладное: несмотря на видимый порядок, чего-то привычного не хватало, она зажгла лампу, вполуха слушая несвязный бабкин рассказ про улетевшую хату, достала из печи и налила в глиняную миску перетомившегося супа, отрезала хлеба.
— Поешь, поешь, бабушка, ночуй, горемычная, места не пролежишь, — присматриваясь кругом, Варечка по-прежнему старалась понять, чего недостает в избе. Ведра стояли пустые; оставив Салтычиху дохлебывать варево, Варечка пошла к колодцу и там, дожидаясь своей очереди, стояла в сторонке молча. После недавних потрясений она никак не могла опомниться, казалось, что в мире все что-то не так.
Пришла, позванивая ведрами, Ефросинья, сразу отозвала Варечку в сторону.
— Не хотелось мне говорить об этом, соседка, обещалась… Ты на меня сердца не держи, — глянула себе под ноги Ефросинья. — Дело такое, Володька твой заходил перед вечером. Слышь, говорит, передай, дескать, Варваре Кузьминичне, ухожу к Настасье, совсем ухожу. Такие вот чудеса со мной, пусть, дескать, и не гонится, забудет напрочь. Куда же ты, говорю, навострился-то на старости лет, дурак беспутный, — а он ржет. Ничего, говорит, у старого козла рога крепче. Тьфу! Тьфу!
Кто-то еще подошел к колодцу, заговорил с Ефросиньей, Варечка Черная видела знакомое лицо, но никак не могла вспомнить, кто это; она вернулась домой с пустыми ведрами, теперь уже совсем оглушенная, бессильно опустилась на лавку у порога; у нее даже не было сейчас той горестной, взрывчатой бабьей обиды на мужа, что заставляет кричать, ругаться, выть на весь мир, что-то более глубокое и сильное владело ею, внутренне она уже была готова и к такому исходу; она даже чувствовала умиление оттого, что так горько и несправедливо обижена, и у нее появилось неясное, потом окрепшее чувство победы над собой и над всей жизнью; бабка Салтычиха как раз доела суп, что-то спросила у Варечки, но та не расслышала и тяжело встала.
— Для успокоения духа… винца бы каплю испить… Срам и грех в мире, Варвара, — глухо, разорванно доносился до слуха Варечки охающий голос Салтычихи; она вышла в сени, достала запрятанную в рухляди бутылку с самогоном, поставила на стол.
Бабка Салтычиха вздохнула покорно, вынула затычку, понюхала ее, Варечка принесла алюминиевую немецкую кружку, на ходу тщательно вытирая ее изнутри краем расшитого рушника. Сморщив и без того сморщенное старостью лицо, принялась энергично перетирать беззубыми деснами хлеб с солью, но видение уносившейся ввысь и на глазах развалившейся в небе мазанки не отпускало ее.
Ночью, лежа в разных углах, они никак не могли заснуть; Варечка перечитала все известные ей молитвы и в припадке душевной размягченности даже попросила бога оказать милость грешному рабу его Володимиру Григорьеву; Салтычиха ворочалась и вздыхала, а когда накатывалась дрема, стонала и даже вскрикивала во сне, вскакивала, ошарашенно пялилась в темноту, горестно вслушиваясь в монотонное жужжание беспокойной мухи, с непостижимой быстротой метавшейся из угла в угол.
— Бабушка, — раздался неожиданно голос Варечки, — скажи, родимая, есть бог?
— Срамница, Варвара, опамятуйся! Грех-то, грех, ты не спрашивай, ты веруй! Веруй! — после паузы с некоторым изумлением поспешно вскинулась Салтычиха. — Бесы тебя одолевают, Варвара! Веруй!
— Бесы, бабушка, каюсь, — покорным шепотом согласилась Варечка Черная.
— Тебе годов-то сколько, Варвара? — строго спросила Салтычиха, окончательно просыпаясь. — Поди, под пятьдесят накатывает?
— Уж сорок шесть, бабушка, отзвенело, ох, много, много.
— Много, — заверила Салтычиха, беспокойно ворочаясь. — Много! Стара, стара-то для бесов! Веруй!
— Господи, помилуй, — еле слышно прошептала Варечка Черная, и под потолком опять бестолково билась, толкалась одинокая муха.
Салтычиха еще что-то пробормотала и наконец провалилась в спасительный душный сон, а Варечка все никак не могла сомкнуть глаз; стараясь избавиться от тоскливых мыслей, тихонько оделась, вышла на улицу. В избе было душно, но и на улице жар шел от неостывшей земли, выгоревшие, рыжие звезды искристым разливом застилали небо, и что-то приоткрылось в душе у Варвары. «Чудно, чудно устроено небо», — подумала она, наполняясь тихим удивлением перед красотой распахнутого над ее головой неведомого пространства.
* * *В час, когда на женщин в поле возле озера налетел невиданной силы смерч, попутно разметавший в щепы и мазанку бабки Салтычихи, деревенская дурочка Феклуша бродила по опушке старого дубового леса вокруг большого, чуть ли не в рост человека, конусообразного муравейника; здесь она любила бывать особенно часто, пропадала неделями, неизвестно чем питаясь, мелькая по ночам скользящей тенью в затемненных местах; в полнолуние же она забиралась на самую вершину залитого холодными лунными волнами холма, тут же, неподалеку от леса, неподвижно застывая там с поднятым к небу лицом, погруженным во власть лунного сияния. Было в этом какое-то пугающее таинство, и, видя Феклушу в таком состоянии, никто из густищинцев ни разу не потревожил ее, а старался тихонько обойти ее и незаметно скрыться. Размеренный ритм и деловитая суета крупных лесных рыжих муравьев словно завораживали ее, и она могла часами широко распахнутыми глазами немигающе следить за беспорядочными, казалось бы, хаотическими движениями проворных насекомых, но в тот день они были особенно оживлены, их жилище словно было покрыто живой, тусклой, непрерывно шевелящейся корой. Происходило что-то необычное: из глубин муравейника, растекаясь по земле, выбивались все новые и новые ржавые потоки; стройные полчища непрерывной широкой лентой отделялись от муравейника и уползали в сторону леса в строго определенном порядке; Феклуша зачарованно сделала несколько робких, неслышных шагов в том же направлении; какое-то смутное воспоминание, неясное желаний исчезнуть в прохладной сумеречности леса мелькнуло в слабом, чутком мозгу Феклуши и тотчас исчезло. Пересекая все препятствия, пни, валежины, кочки, полчища муравьев по-прежнему текли в глубину леса; Феклуша присела на корточки, засмеялась и, преграждая путь насекомым, погрузила голую по локоть руку, тотчас густо покрывшуюся насекомыми, в их движущуюся волну, не задерживаясь, они переползали через руку и неспешно, неотвратимо продолжали двигаться дальше в известном только им направлении. Феклуша чувствовала кожей легкое щекотание, но ни одно из этих воинственных насекомых не укусило ее, как будто не живая рука была на их пути, а обвалившийся сверху отмерший древесный сук; Феклуша еще раз бездумно засмеялась, встала и легким, быстрым движением стряхнула с руки муравьев. И в тот же момент глаза ее испуганно метнулись; тугая, свистящая, горячая волна ударила в нее и отшвырнула в сторону; деревья заплясали перед глазами, раздался оглушительный треск ломавшихся вершин, и сразу стихло, лишь где-то еще продолжали падать, с треском обламывая сучья, покалеченные деревья.