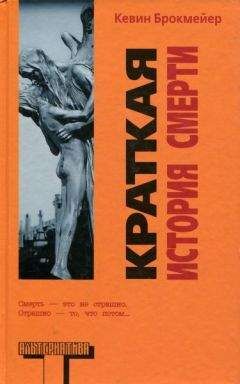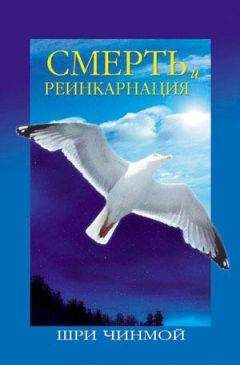Борис Фальков - Горацио (Письма О. Д. Исаева)
— А воны чекають на вас, чи ни, тии дидьки? — зачеркнула она одной из хорд, одним движением костыля дом, его дом на той стороне.
— Как тут у вас переправляются, — спросил он почти грубо. Старухина агрессивность понравилась ему ещё меньше, чем прежняя спячка. — Может, есть у вас тут брод?
Он с сомнением покосился на речные водовороты. Дунул слабый, но нервный ветерок, и погнал против течения рябь, стирая с поверхности воды сиреневые оспины. Туда же поплыли нападавшие откуда-то в воду листья.
— Перевоз, — каркнула старуха, ткнув костылём в плоскодонку, пристроенную за грушей. Странно, как это он раньше не заметил её.
— Чья лодка?
— Ота?
— Ну да, да, эта! — сдерживая накапливающееся раздражение, сказал он. Можно на ней переехать?
— Чого ж не можна — можна.
— А кто её назад перегонит? — невольно глянул он на костыль.
— Та, мабуть, я. А то хто ж?
— Я заплачу, — пообещал он. — Может, я на вёслах, а вы…
— Отож! Звидкы ж весла… Двадцать копийок!
Костыль почему-то сделал выпад в сторону его толстого портфеля.
— Замётано, — решил он покончить с переговорами и угрызениями совести.
— Чого ще?
— Говорю: согласен.
Он отступил в сторону, чтобы дать ей пройти к берегу, но не стал поворачиваться к ней спиной. Что там спиной, даже боком — не стал. Всё это он проделывал уже не обдумывая, автоматически. Старуха запрыгала на своих трёх опорах к воде. Он столкнул лодку, увязнув в иле, в который превращался песок сразу же за границей берега и дна. Туфли, конечно, промокли. К этому — он ещё проехался животом по борту лодки и, разумеется, оторвал от рубашки пуговицу. Пока он устраивался на сиденьи, плоскодонка лихо прыгала под ним. Устойчивое положение было найдено лишь после решения уравновеситься портфелем. Его пришлось поставить в затхлую, плескавшуюся под скамейками воду. Глядя на испорченные туфли, он не преминул отметить свою удивительно вялую реакцию на укусы очередных неприятностей. Но никак не расценил эти перемены, возможно, и имеющие какие-нибудь последствия. Пока он вот так устраивал себе жизнь, старуха чудесным образом оказалась на скамейке кормчего. Самым расчудесным, если учитывать её возраст и конструкцию, обе вещи — весьма несовершенные… Костыль, вонзившись в воду, превратился в шест Харона — типун тебе на язык, сказал он себе — которым старуха явно собиралась отталкиваться от дна.
— Мелко? — спросил он, сидя спиной к своему дому — лицом к Харону.
— Туточки да, — старуха снова уставилась на него, не делая попыток сдвинуть лодку с места. Он испугался, что она опять впадёт в своё оцепенение.
— Ну, бабка, может быть, всё-таки я потолкаю?
— А може… не поидемо? — вдруг выпалила она и подмигнула здоровым веком. — Може, передумаемо?
— Чего? — изумился он.
— Та ни, то я так, — сказала она, по всей видимости — самой себе. — Що воно мени? Мени тым краще: раниш я була з краю, тепер уси воны…
— Чего-чего? — растерянно переспросил он. — Кто — воны?
— Та уси ВЫ, а то хто ж.
Тут она с силой оттолкнулась костылём, плоскодонка качнулась. Ветерок приударил за рябью, зачерпнул в ней водички и швырнул брызги в лицо. Он судорожно ухватился за борт, портфель повалился набок, лодку подхватило течение, и в следующий миг их уже уносило в сторону от цели. Молчи, приказал себе он. Бабка-то юродивая. А, значит, уважай… старость. Не то утопит.
А не было бы это к лучшему? Скажем, если бы Харон не перевозил на тот берег, а топил своих пассажиров, не было бы так лучше для них? Харон, Харон, ха-ха, он уже начинал посмеиваться над банальностью очередного сюжета, а кто тебя самого перевезёт, когда наступит время? Он представил себя, везущего старуху назад, на этот берег, потом снова её, везущую его на тот, потом снова, туда-сюда, и так далее… Нет, далее сюжет всё же разделился на две фабулы. В одной из них он таки сновал с бабкой туда-сюда через речку, зато в другой он, перевезя Харона обратно, вылез из лодки и обратным манером отправился по только что проделанному маршруту. Как если бы страницы этой фабулы, в отличие от первой, были прономерованы от конца к началу и именно так их следовало читать. Сначала по дороге луговой, потом на машине до Полтавы — цирроз ей в печень, подумаешь, что за преступление он там совершил, не зашёл к родственникам! Не зайдёт он и на этом, обратном пути от конца к началу, зачем? Нельзя портить идеальную форму повторяющейся, закруглённой фабулы, она и без того полна внутренних изъянов. Пусть она себе без помех вертится, пусть обе они вертятся без конца, одновременно, точнее — вечно. Пусть лихо щёлкают деревянные таблички, прономерованные туда-сюда, а какая разница? Лишь бы был какой-нибудь порядок. Какой-нибудь.
Итак, на машине до Полтавы, а после, не заходя к родственникам, в душном вагоне до Харькова, горячий борщ на перроне, пересадка, и в ещё более душном купе — в Москву. И вот он уже в своей городской квартире, с какими-то людьми, друзьями, догадался он. Но не со всякими, а только с самыми близкими, то есть, с теми, кто уже успел умереть. Стало быть — с самыми близкими друзьями. Квартира в воображении удивительно смахивала на его собственное тело, те же ноги — спальни распашонкой, живот — шикарный туалет, та же голова кабинет-гостиная. Таким образом получалось, что покойные друзья заселили не столько его квартиру, сколько его самого, его организм, с душой вместе, разумеется, куда же она, душа, денется? Поскольку же они умирали дальше и в этой воображаемой фабуле, а значит — в нём самом, и это происходило так же, как и в реальном прошлом — не сразу, не в один день, то он, определивший друзей на жительство в себе после их реальной смерти, провожал их в тот же путь, в мир иной снова друг за дружкой — но уже в обратном порядке, согласно новой возвратной фабуле. Для этого было даже составлено подобие расписания, которому он и подчинялся вполне: без ропота в душе. Будто регулярно получал приказы за присущими им номерами, плюс путевой лист, и обыденно исполнял их. Здесь он снова осознал, что описывает, собственно, всё того же Харона, усмехнулся банальному осовремениванию интерпретации вечного сюжета и тем замкнул фабульный круг. И распавшийся было надвое сюжет снова сложился в один первоначальный, единый, как вкладываются друг в друга удивительные китайские шары: без щелей, без какого бы то ни было отверстия, без единого наружного изъяна, непонятно — как. Непонятно, впрочем, и — зачем. Харон, на которого он в конце концов уставился уже не в воображении, а воочию, перевозчик не душ, а тел, был точкой в конце последней — то есть, первой же — таблички: вот эта сидящая напротив бабка.
Была точкой, поправил себя он. Впрочем, какая разница, старик тебя туда свезёт или старуха, если оттуда не должно быть возврата, а предусмотренная для возврата фабула — есть! Он тут же спохватился, поскольку последнее слово произнёс, а может быть и выкрикнул, вслух. Пришлось послать вдогонку, так, на всякий случай, милую улыбку старухе. Итак, вымученная воображением фабула снова всосала в свою сферу порядочный кусок реальной жизни, собственно, вычеркнула из неё этот кусок. Теперь нужно было возвращаться в неё, сердешную, в эту жизнь, а для того требовалось сделать знакомое усилие. Сделать же его было трудно, как никогда. Ведь он сидел спиной к собственному дому, лицом к жуткой старухе, и над её головой видел нимб: гнездо цвета хаки на далёком столбе, в нём два неподвижных длинношеих силуэта с овальными головками и огромными клювами. Но почему ими так затруднялось возвращение в реальную жизнь, если все они — элементы той самой жизни? Чёрт его… Всё это было странно. По меньшей мере — труднообъяснимо.
— Казала я вам, шо треба дом у центру купуваты, середь людей… Навищо тут, чого мы бачиты не мусимо? Казала, разводь кролей, копай город, а хлопця тримай на цепу. Так воно мене обдурило, почало копаты — та бросыло, як я видвернулася. Це як розумиты, цю брехню? Ни, я ще с глузду не зовсим зъихала, можу розумиты…
Старуха не боролась с течением, а лишь чуть скашивала направление движения вправо. Лодка описывала вытянутую кривую, длинную дугу сферы. Хочет подняться потом вдоль того берега против течения, понял он, наверное, там оно слабее. А может быть — это мель, опора для костыля перевозчицы, имеет такую конфигурацию. Или, но эту новую фабулу он сразу отогнал от себя, старуха затягивает время. Он сунул пальцы в карман и нащупал монетку.
— Ну, то як?
— Нияк, — сказал он, вынимая монетку и вертя её в пальцах так, чтобы старуха ясно всё видела. — Не буду. Я не буду разводить кроликов, и разбивать огороды. Мне это ни к чему. Да и ничего такого мне вы не говорили. Когда бы это? Я вас впервые вижу.
— Ну тому я казала. Яка ризныця?
— Он тоже не хочет. — Получалось, бабка знала больше, чем… нет, чувствовала больше, чем могла знать. — Он тоже хочет, чтобы всё оставалось по-старому. Как оно есть. Каким было куплено. Так оно красивей.