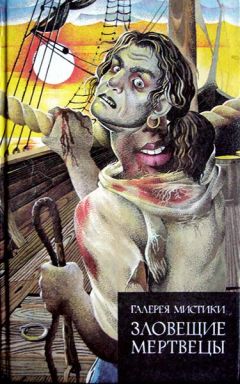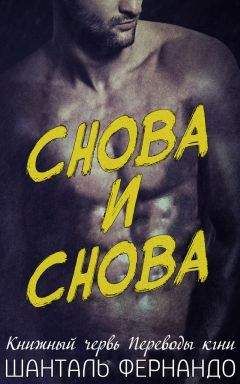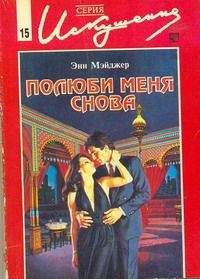Андрей Коровин - Ветер в оранжерее
15
Во-вторых, Елена, будучи наделённой почти совершенной физической чувственностью, была при этом лишена чувствительности к очень многим, внешне, казалось бы, незначительным, но очень важным для меня вещам.
Я уже упоминал о том, что она напрочь лишена была чувства юмора, но вместе с тем очень любила шутку, смех, весёлые остроумные компании и с большим увлечением пересказывала смешные, по её мнению, истории из её собственной жизни, относясь к той категории полуинтеллигентных людей, настольной книгой которых является Ильф и Петров. У неё была замечательная память, она на лету схватывала все чужие остроты и затем вставляла их в свою речь, дополнительно приукрашая их (как она думала) актёрской игрой, приёмы которой она также перенимала очень быстро и усваивала накрепко.
Елена не шутила, она — подавала реплики.
Оказалось, между прочим, что она поступила всё-таки не в цирковое училище, а в какую-то полуофициальную театральную школу-студию, которую посещала два-три раза в неделю…
Особенно неприятным было пристрастие Елены к шуткам из кинофильмов, к тем бесконечно словно самотиражирующимся шуткам, которые удовлетворяют бессознательную тягу к живому слову огромного большинства нашего населения. Эти общепринятые (что немаловажно для потребителя) формулы смеха всегда напоминали мне как бы таблетки, которые, как когда-то говорили, заменяют космонавтам антрекоты и жареную осетрину, и бывали минуты, когда смеющихся подобным шуткам людей я жалел больше, чем плачущих.
Елена, услышав, например, что кого-либо зовут Васей, реагировала мгновенно. “Как верблюда”, — говорила она. В институте училось множество людей из северных городов — Норильска, Сыктывкара, Якутска. Выпив и разомлев, мужчины часто начинали зазывать к себе в гости. “Нет, уж лучше вы к нам!” — неизменно отвечала Елена, выпрямляя спинку, немного выпячивая и без того довольно пухлые губки и делая надменные глаза. Эта надменность её туманных глаз, гордо выпрямленная спинка и подчёркнуто грудной голос, которым она произносила чёрт знает какой давности шуточки, буквально сводили с ума зачастую очень неглупых мужчин. Они смеялись до колик.
Учился с нами Лев Борисович Рубинштейн, человек лет пятидесяти пяти, из Минска, какой-то главный эксперт по белорусским культурным ценностям. У него была густая чёрно-седая борода и крутая лысина, сильно увеличивающая выпуклый, но невысокий лоб. Шуточками типа “Какая гадость ваша заливная рыба!” и манерно-плавными движениями своих точёных ручек Елена как-то раз довела его до такого состояния, что в присутствии довольно большого скопления народу он не только позволял ей поминутно щёлкать себя по лысине сложенной газеткой, приговаривая “Пупсик Борисович! Умора!”, но и помирился со мной, а мы не разговаривали и не здоровались с ним года три, не меньше. Ссора вышла ещё на первом курсе, когда все читали “Доктора Живаго” и восхищались “Ах, “Доктор Живаго!”". Я тогда зачем-то заехал в общежитие, чуть ли не полкурса набилось в одну из комнат и с воодушевлением первокурсников вело литературные споры. Мне, помнится, очень быстро стало скучно. “Послушайте, но ведь “Доктор Живаго” это, может быть, самое неудачное из написанного Пастернаком”, — сказал я. Поднялся шум, а Лев Борисович Рубинштейн так и взвился. “Докажите!” — сказал он таким голосом, как будто тут же собирался со мной стреляться. “Ничего я не буду доказывать”, — сказал я. “Нет, вы оскорбили память великого человека!..” — кричал Лев Борисович с характерными для него как бы заученными наизусть интеллигентскими интонациями. Все остальные явно его поддерживали. “Да почему же? Я люблю его стихи. А роман плохой, неудачный”. — “Чем, чем он так плох? — требовал Рубинштейн. — Не хотите объяснять — скажите одним словом!” — “Да нельзя здесь одним словом”, — ответил я. “А нельзя — потому что сказали вы не подумав. Всё обдуманное можно выразить одним словом. Я жду. Одно слово!” — оглянулся он на окружающих, разгораясь всё больше. В тот вечер, кстати, я был трезв, дома болела Соня, а компания, напротив, уже была хорошо разогрета. “Одно слово?” — переспросил я. “Да! Одно!” — наскакивал Рубинштейн. “Ханжа”, — сказал я. Лев Борисович задохнулся, плюнул на пол и демонстративно покинул помещение, осквернённое таким ужасным мракобесом. После этого он не говорил со мной несколько лет — до тех пор, пока Елена сложенной газеткой, крепко сжатой в её аккуратной ручке, не выбила эту обиду из его лысеющей головы…
Было и ещё одно происшествие, неприятно поразившее меня.
16
Однажды со мною случилось что-то вроде рецидива толстовства и непротивления злу.
Пропивали мой гонорар, полученный за участие в сборнике “Квартал 007″. Участвовали в этом деле: Елена, Катя, Злобин, улыбавшийся своей всегдашней спокойной улыбкой сильного человека, и его жена Марина, довольно молодая женщина с изумительной густоты каштановыми волосами, в которых красиво и часто блестели нитки преждевременной седины. Всё было как-то очень тихо и тускло, не хорошо и не плохо.
Настроение у всех было какое-то приглушённое, да и меня в тот раз водка не заводила, а наоборот — погружала в какое-то мягкое, неотчётливое отчаяние и во всё более туманящуюся тоску.
Я вспомнил почему-то азербайджанца Мурада, который одно время работал в нашей бригаде. У него были полные щёки, нос, напоминающий в профиль акулий плавник, очень маленький ротик и огромные угольно-чёрные ресницы на выпуклых веках. И ресницы, и веки Мурада хорошо запомнились мне, так как были несколько необычными — совершенно одинаковыми сверху и снизу, глаз лежал в этих веках, обрамлённых одинаковой длины ресницами, словно диетическое яйцо в специальном стаканчике, положенном набок.
Как-то раз, вечером, ранней осенью, откуда-то из тайги к нам пришли охотники со сворой собак, голодных, с грязной шерстью на животах. Собаки вдруг со свирепым лаем набросились на Мурада, и он влетел в избушку, захлопнув за собой дверь. Я остался на улице, и собаки, заходясь от злобы, стали пригибаться к земле, скалиться, рычать и прыгать вокруг, как будто я был медведь. Помню, что пока не подбежали охотники и не отогнали псов, я совершенно спокойно стоял под редким дождём в накинутой на голову старенькой плащ-палатке, внимательно смотрел на упругие лапы приседающих в озверении псов и на вздыбившиеся их загривки. Ни одно существо на свете, был уверен я в тот момент, не могло причинить мне вреда, и я даже не потянулся за палкой, черенком от лопаты, прислонённым совсем рядом к стене избушки. Ещё было довольно тепло, и в темнеющей тайге поднимался от мокнущего подлеска беловатый пар…
— Если погладить жизнь против шерсти, то дыбом встанут воспоминания, — зачем-то, немного пьяным голосом, произнёс я, видя перед глазами скачущих псов и взъерошенные их загривки.
— Это из Шаламова? — спросила Марина.
— Конечно, встанут, — сказала Елена, любившая, как она говорила, “вставить свой пятак”. — А что встанет у Асланова?
Я заметил, что она словно бы мстила за что-то лысому Роме Асланову, которого уже давно не было в Москве и которого она за что-то невзлюбила, возможно, за его излишнюю шутовскую проницательность.
В этот момент в комнату, озираясь по углам, вошёл татарин Рамиль, заочник, застрявший в общаге месяц назад и пивший всё это время без просыпа. Увидев на столе водку, он рванулся к бутылке и схватил её.
— Нет, так не полагается, — сказал ему я, поднявшись и осторожно вынимая из его рук бутылку.
— Водки мне! — рычал он.
Я высвободил бутылку и налил ему стакан. Он выпил и упал на кровать рядом с женой Злобина.
— Браток, выпил, иди! — сказал ему Злобин.
Рамиль ушёл, грязно матерясь.
— Зачем ты налил ему? — спросила Марина.
— Жалко человека, — ответил я.
Прошлой ночью мы смеялись с Еленой своеобразным серенадам, которые допившийся до чёртиков Рамиль пел под дверью болгарки по имени Звэзда (что в переводе с болгарского, я думаю, означает “Звезда” — интересное имя). Звэзда жила через коридор напротив, и всё было очень хорошо слышно. Рамиль плакал, говорил, что стоит перед дверью на коленях, что повесится на полотенце на ручке двери — короче просился в комнату. Звэзда его не пускала.
— Звэзда! Звэздочка! — причитал Рамиль. — Пусти! Я не сделаю тебе ничего плохого! Если я сделаю тебе хоть что-нибудь плохое — пусть я умру!
Тут у него проснулось какое-то древнее родовое чувство.
— Пусть умрёт моя мать!.. — продолжал он. — Пусть умрёт мой отец!.. Пусть умрёт мой брат! Пусть умрёт моя сестра! Пусть умрёт и моя младшая сестра!..
— Пусть умрёт мой дядя и мой тётя! — хихикала Елена, целуя мою грудь и живот.
На этот раз она угадала. Рамиль, действительно, дошёл до дяди и до тёти…
Через некоторое время, минут через десять-пятнадцать, не больше, Рамиль снова вломился в комнату. Как животное, которое идёт к уже знакомой кормушке, он, не обращая внимания на остальных, стал надвигаться на меня, полулежащего на кровати и (пытаясь спастись таким образом от тоски) обнимающего за бёдра Елену.