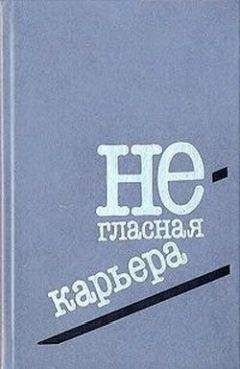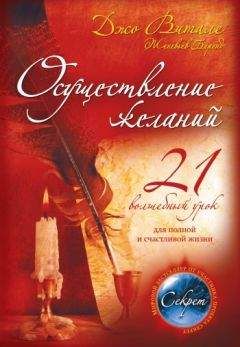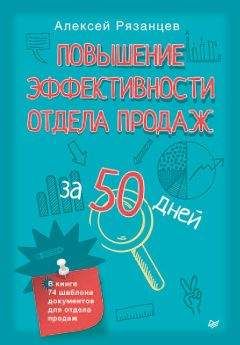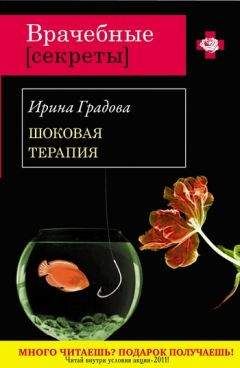Александр Проханов - Место действия
«Господи!.. Жить! Только жить!.. Не могу, не могу!.. Умираю!..»
— Так, ничего страшного… Я ничего не вижу!.. Вот здесь небольшое воспаление… у стеночки… Ничего особенного… И у луковицы… Потерпите немножко!
Он содрогался желудком. Слезы лились. В нем, в самых недрах, в самой его сердцевине, моргал и хозяйничал чужой любопытный глаз. Высматривал и выглядывал все его сокровенное, тайное и святое. Делал явным.
«Жить!.. Только жить!» — он молился и плакал.
— Ну вот и кончено! Вы молодец, герой! Молодой и тот не выдержит столько!.. Все у вас в порядке!
Голубовский, в трясении пальцев, благодарно, умиленно с внезапным облегчением и слезной стариковской слабостью натягивал красно-синие тапки. Еще до конца не веря, но и веря уже безусловно, ввергаясь обратно в жизнь, трунил, усмехался, отвлекал врача от писания:
— Ну какой замечательный прибор! И как вы быстро, умело!.. Мы, старики, привыкли терпеть! Это молодежь нетерпелива, изнежена, а мы, старики, привычны… Да нет, я в общем-то знал, но надо было проверить. А то, знаете, все беспокоит, все сидишь над архивами, хочешь сосредоточиться, а он отвлекает!.. Да, вы правы, вы правы, не надо так близко к сердцу, а лучше пропускать, пропускать…
Утомленный, измученный, но счастливый, он вернулся в палату.
16
Среди дня явился к нему Городков. Принес пшеничный, еще теплый ситник, поразивший Голубовского своей невиданной формой, теплотой, белизной. Городков, пошушукав с сестрой, раздобыл стакан крепкого сладкого чая, угощал Голубовского булкой с маслом, и тот с наслаждением ел.
— Это вам безвредно, Егор Данилыч, я у врача узнавал. Ничего, слава богу, опасного.
— Опасности нас минуют… Ах, вкуснота-то какая! Откуда в Ядринске ситник?
— Новый хлебозавод выпекает. Комбинат еще только строят, а булки уже выпекают. Политика такова, Егор Данилыч: сначала накормить человека, а потом предложить работу. И клиника эта с новейшей аппаратурой из области той же политики: сначала сделать человека здоровым, а потом предложить работу.
— Правильная политика, ничего не скажешь! — соглашался Голубовский, расслабленно улыбаясь, после всех пережитых мук наслаждаясь вкусом теплого хлеба.
— Понимаете, Егор Данилыч, я был не прав. Мы все были не правы. Это наша ошибка. Я узнал Пушкарева поближе. Очень близко узнал. Поверьте — человек удивительный! Энергия, одержимость! Он Ядринск поднял на дыбы!
— А что, может быть! — посмеивался Голубовский, счастливый своим исцелением, приходом Городкова, его вкусным подарком.
— Знаете, он чем удивляет? Ничто не выпадает из его поля зрения. Казалось бы, такое строительство, министры ездят, народу тысячи, миллионами ворочает, а вдруг взял и спросил о вас, о вашем здоровье.
— Неужели? Неужели знает, что болен?
— Представьте! Я ему рассказал о вас, о вашей судьбе, о вашем, если так можно выразиться, подвиге жизни — о музее. Он, оказывается, бывал в музее, расхвалил его.
— Почему же ко мне не зашел? Я бы провел его сам.
— Да постеснялся, наверное, не хотел вас обременять.
— Ну какое там может быть бремя.
— Да, и еще… Узнал от меня, что у вас сын инженер, живет вдалеке от вас. Сказал, что теперь на комбинате место ему непременно найдется. Толковым инженерам здесь почет, квартира, перспектива роста. Так что вы напишите сыну-то!
— Напишу непременно! Зачем ему скитаться, блудному сыну. Пусть возвращается. Здесь его примут, обласкают. Так и сказал — квартира? Напишу, непременно напишу…
— Лямина дура, Егор Данилыч. Просто дура, временное явление. Есть настоящие головы, понимающие проблемы культуры, умеющие ценить культурные кадры города. Я боюсь, что она своим появлением, своим бестактным разговором с вами исказила в ваших глазах, Егор Данилыч, одну хорошую, стоящую идею.
— Какую идею?
— Нам надо действительно, и как можно скорее, устроить в музее выставку, посвященную комбинату. Я понимаю, Горшенин, его чудесные акварели… Но они своего дождутся. Алеша еще молодой, время его еще впереди. У нас, как вы знаете, Егор Данилыч, запускается свое, ядринское телевидение, и первую передачу, серьезную передачу, поручили составить мне. И я хочу ее сделать в музее, с вашим участием и с участием, пусть это не покажется вам странным, с участием Пушкарева. Музей в целом, освещающий славное прошлое города, и небольшая выставка, освещающая сегодняшний день комбината. Интервью с Пушкаревым и с вами. Отчет о работе музея. Передача и на областное телевидение пойдет, и даже, наверное, в Москву. Рассказ о вас, о вашем детище. Вы ведь всю жизнь посвятили музею, и время теперь обнародовать. А Алеша наш еще молодой, у него еще все впереди…
— Верно, — кивал Голубовский, — у Алеши все впереди…
— А сыну-то вы напишите, блудному сыну.
— Напишу, напишу непременно… У Алеши еще все впереди…
Похудевший, изнуренный, но вновь воскресший, Голубовский восторженно синел глазами. Городков уже вынул блокнот с оттиснутой надписью: «Нефтехимкомбинат», набрасывал план будущей передачи.
17
Бегло, уже на память, без тетрадок с ролями, повторили два первых действия. Атаку с убитым конем, поединок на саблях, полет на кленовой телеге. Подхватили третье действие. Маша не репетировала, а играла, видела — и другие играют. Ленивый, вялый Слепков обходился почти без штампов. Гречишкина вела свою роль легко и весело. Творогов не мешал. Забился в угол на старом кресле и оттуда воспаленно, готовый вскочить, но не вскакивая, следил за движением пьесы.
Как черный огромный грач, вздулась весенняя пашня. Новый «фордзон» дышит нагретой смазкой. Петр в кожаной куртке сидит за штурвалом, в грохочущем, потном железе. А Федор с ключом лежит под брюхом машины. Вокруг — ворохи юбок, рубах, визги гармоней. Девки отплясывают как во хмелю. Летят над дорогой травяные ошметки. Гвоздики вспыхивают в башмаках. Под малиновой кофтой — точно живой петух. От юбки отскочила тесьма. Парень прижал сапогом. Треск. Хохот. Белая в подвязке нога.
Девки машут подолами над Федькиной головой, щурятся на железо…
— Страшенный! А рога-то есть у него?
— А ты пошшупай, пошшупай!
— Ему на расплод тракториху надо. Каждый год тракторята пойдут!
— Федь, а Федь, ты чего? Его доишь?
— Не мешайте ему, а то копытой лягнет! Петр Тимофеевич, а Петр Тимофеевич, а нас обучать не возьмешься?
— Верка тебя обучит, под трактор кинет!
— Ой, глядите, старики идут! С ношей!
По дороге от села шли старики. Несли на широких плечах старые сохи. Подошли, сложили у трактора, отирая с бровей пот. Поклонились Петру:
— Принимай товар, Петр Тимофеевич…
— Гляди, дубовая. На ней еще отец пахивал.
— Ты дохни, дохни. Она, голубушка, аржаным пахнет!
— Грудь у ей лебядиная. И иду я за грудью ее лебядиной до вечерней звезды…
— Небось тышшу верст за ней отшагал?
— Куды ж нас за новой-то жизнью? Сами как старые сохи. И нас в огонь…
Деревенский поэт Кеша, служивший писарем, напружинил под рубахой грудь:
— Старики, оставьте свои ахи и охи, кидайте в огонь свои сохи. У нас нонче новое время, за трактором пойдем кидать в землю семя.
— Опять стихами пошел пороть, — вздохнули старики.
Старик Антип Архипыч взял Петра осторожно за полу кожаной куртки. Руки у него до земли. Борода заткнута за кушак. Он весь земляной и черный, точно его только что выпахали из борозды. Он больше всех на своем веку перевернул земли. Отвоевал три войны. Турка одного руками пополам разорвал. Но с тех пор на Руси прошумело много урожаев, много турок народилось и померло своей смертью. А из глаз Антипа Архипыча льются день и ночь бледные слезы.
— Петенька, — сказал дед, — погляди ты на нас светлыми своими очами. Об тебе в книгах писано, что твоему приходу быть. Примешь ты тут за нас большую муку… с угодниками воссияешь. А стары-то угоднички из каждого цветика на тебя зрят, из каждой тучки, из каждой сохи деревенской… В огонь их, сохи, в огонь. Приехал Петька на железном коне!
Старики покололи свои сохи, кинули в пламя, и дубовая сила легким дымом унеслась в облака.
— Вдовы, вдовы идут! — закричали девки.
И вправду шли по дороге вдовы. В первый раз скинули свое черное. Набелились, нарумянились. Подвели угольком брови. Нацепили яркие бусы. Подходят к трактору. Сцепились за руки и запели неяркими голосами: «Ты не радуйся, ель-осинушка, не к тебе идут девки красные…»
Боялись тронуть масленое железо. Но их влекло, будто это была пахнущая, в клейких листьях береза и они, молодые, вышли к ней ожидать женихов. Девки перешептывались, глядя на вдов:
— Вот уж горькие-то! Неужто и нам так петь?
— У Ляпихи мужик на германской остался.
— А у Лукачихи на гражданской.
— У Еланихи кулаки убили.