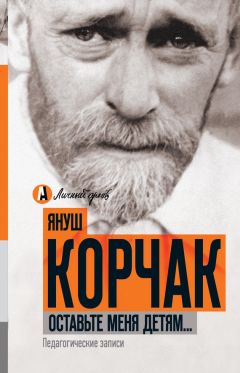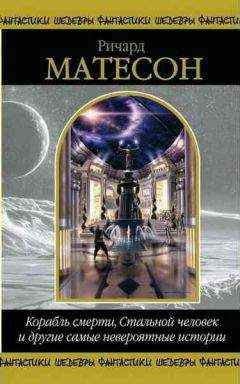Юрий Герт - Солнце и кошка
Костровский слушал ее, вытягивая губы дудочкой, кивая, в глазах его было сочувствие и понимание.
Взгляд его на мгновение стал острым, отчужденным, таким — помнила она — смотрели на нее экзаменаторы в Москве. Он будто сквозь нее — теперешнюю — увидел тоненькую, с худыми руками и длинной шеей девочку, своей свежестью, наивностью, неискушенностью в искусстве преодолевавшую все, даже то, что было самим искусством. Он вернулся взглядом к ней, сидящей перед ним в белом врачебном халате, глухо застегнутом, но посмотрел как бы со стороны,— и огорченно произнес, огорченно и строго:
— Вы слишком рационалистичны для сцены... Это мешало бы вам в роли забыть себя...
Она почувствовала себя задетой. Но не в том смысле, что из нее бы в любом случае не получилось великой артистки, нет... В словах его содержался какой-то упрек, обращенный к ней как к женщине, словно высшим идеалом для него был артист, и то, что мешало этому, делало человека неполноценным... В прищуренных его глазах Лиле чудилась усмешка.
Она подосадовала тогда на свою откровенность, он как бы уличил ее в постыдном пороке... «Вы слишком рационалистичны...» Ну, что ж. Какая есть. Не всем же быть как та артистка... Она чувствовала себя неприметной, серенькой, как тогда в гастрономе, в толчее очереди, с разбухшей сеткой в руке... Да, надо ведь кому-то носить кефир и, между прочим, лечить людей от стенокардии...
Она чуть не сказала ему об этом. Но сдержалась.
— Мне надо сходить, взглянуть на больных в восьмой палате,— сказала она и поднялась чуть-чуть более резко, чем делала это всегда. Он заметил.— А вам пора спать, я и так слишком позволяю нарушать вам режим...
В другой раз он неожиданно заговорил о своей будущей постановке. О спектакле, который вынашивал давно... То была «Орестея», трагедия высоких и роковых страстей, величайшая трагедия античного мира... Костровский закрыл глаза, помолчал, откинувшись головой на спинку стула. Все тело его обмякло, расслабилось. «Они были наивны, как дети,— сказал он,— они не упрощали... В бытовой мелодраме им открывалась космическая трагедия... Мне хочется поставить эту вещь. И чтобы люди, по крайней мере, на время, пока сидят в зале, оторвались от ежедневной суеты, пустяков, чтобы они вдруг испытали потрясение, содрогнулись, заглянули в глаза Вечности... И ощутили всей своей сущностью, всей глубиной безмерную ценность тех двух-трех мгновений, из которых слагается жизнь... Я мечтаю об этом».
Он говорил о декорациях, о мощных раскатах грома, которыми начинается действие, о молнии, раскалывающей зал... И Лиля как будто оказалась на пороге огромного, вулканического мира, который грохотал в душе, заключенной в тщедушную, нездоровую оболочку тела Костровского. Ей стало страшно своей убогости, мелкости...
Пожалуй, она была рада, когда его выписали. Все вернулось к естественным масштабам, простоте, ничто не будоражило, не тревожило... Но вскоре ей стало скучно. Она еще не понимала, насколько серьезно то, что случилось, но жить, как прежде, уже не могла.
Он позвонил ей в больницу, пригласил на премьеру — очередную, ему бы хотелось услышать ее мнение... «Не знаю,— сказала она,— мой муж не любитель театра...» Она слишком нарочито упомянула о муже, он это почувствовал. Нет, непременно, он оставит ей пропуск на двоих, пожалуй, лучше пришлет домой...
Потом она привыкла к его звонкам. Он звонил раз или два в неделю, выбирая дни дежурств, точнее — ночи. Она уже заранее готовилась к разговору, знала — он позвонит между половиной двенадцатого и двенадцатью, и стремилась, чтобы в ординаторской никого не было, чтобы никто им не мешал...
Встречаясь в театре, куда сопровождал ее сын, Андрей, они были по-прежнему сдержанны, но она знала: он ждет ее, ему приятно, что она пришла... Потом наступило лето, театр уехал на гастроли на целых три месяца. На Лилю напала тоска.
В это время ей предложили командировки — две, на выбор. Одна из них в тот город, где был на гастролях театр. Лиля инстинктивно, как бы избегая опасности, решила выбрать другой город. Она не представляла, что произойдет, окажись они вдвоем, там, где ничто не будет ее связывать. И тут ей вспомнились слова Костровского о рационализме. Она подумала еще раз, что он прав. Что она никогда не решится... Это подстегнуло ее. Она решилась...
Когда он вошел в ее номер, она не смогла ни шагнуть к нему навстречу, ни даже устоять на ногах. Она опустилась на стул.
— Я знал, что вы приедете...— сказал он, бледный, и задохнулся, сжав ее плечи.
Город, в котором проходили гастроли, был южный, жаркий. На улицах сплетались кронами высокие деревья с густой пыльной листвой, в узких арыках с клекотом и свистом неслась веселая мутная вода. Вдали голубели горы, изломы их заснеженных гребней блестели на ярком солнце, как обернутые целлофаном. На каждом шагу курились мангалы, рядом на колченогих столиках стояли бутылки из-под шампанского, с уксусом, который тоненькой струйкой стекал на унизанные шашлыком шампуры. Красный перец раскаленной, обжигающей горкой лежал в глубоких тарелках, кружочки лука поддевали прямо на кончик шампура и жевали с хрустом, закатывая глаза. По дороге, между «волг» и «москвичей», трусили маленькие смешные ишачки с длинными бархатными ушами. Когда Лиля и Костровский прогуливались по городу, у нее было ощущение, будто они на экзотическом острове,— так все было ей непривычно. И казалось, что это специально придумано только для них — ишачки, арыки, горы.
Во рту у нее постоянно горело от красного перца, ей казалось, она вся пропитана, как и весь город, острым запахом лука и дыма, от зноя все на ней плыло, липло к телу, она по нескольку раз в день забиралась под прохладную струю душа, и с каждым разом все более размякла, слабела — от нестерпимого зноя, от свободы, счастья, близости Виталия.
В тот единственный вечер, который он провел у них дома — встречали Новый год, она пригласила Костровского в свою компанию — в тот вечер он подошел в гостиной к пианино, на котором теснились бережно сохраняемые семейные реликвии: подсвечники, вазы для цветов, старинный, в футляре из темной карельской березы, будильник с навсегда замершими стрелками... Тут же затерялась небольшая статуэтка из пожелтелого мрамора в коричневатых жилках — грациозная фигурка женщины, в текучих складках легкой ткани, наброшенной на высокую грудь, на плечи, на плавно изогнутые бедра. Костровский так и застыл перед фигуркой, губы у него вытянулись трубочкой, казалось, он сейчас причмокнет. Он назвал французского скульптора прошлого века, потом перевернул статую и на цоколе нашел слабо проступавшее имя, названное им. Это была копия. И странное дело: все, кто собрался у Огородниковых в тот вечер, уже привыкшие к обстановке их квартиры, приходившие сюда много лет, вдруг обратили внимание, заинтересовались статуэткой, передавали ее из рук в руки, как будто заметили ее впервые.
То же было с Лилей: она впервые увидела ее, впервые ощутила, какая это красота, ценность — и удивилась прежней своей слепоте.
Нечто подобное испытывала она и теперь. Заново, как бы глазами Костровского, она разглядывала, изучала самое себя — свое тело, свои руки, свое лицо, казалось, знакомое до последней черточки. У нее изменились жесты, походка, к ней вернулась уверенность в себе, та, которая была у нее, когда она являлась на сцене «полячкой гордой» в платье из тяжелой, расшитой бисером парчи. То была походка счастливой женщины — летящая, едва касающаяся земли. Она ощущала за собой право, способность — одним взглядом делать счастливыми других, заставлять долгим взглядом следить за нею, ласкать ее, желать ее... То, что пробудил в ней Костровский, было нечистым, но столь захватывающим сознанием своей силы и власти, что прежняя Лиля казалась ей незрелой, в чем-то ребенком, только теперь в ней заговорила женщина, счастливая и способная дать счастье тому, кому пожелает...
О том, что дальше, потом, она боялась думать. Но вот что странно — никаких, ни малейших угрызений совести она не испытывала.
Нет, не то, чтобы она не вспоминала все эти десять дней о Владимире Огородникове, своем муже... Напротив, вспоминала. И довольно часто. Как-то, когда она, в легком платье, красивая, притягивающая все взгляды, сидела с Костровским на открытой террасе кафе, над взбаломученным, быстрым потоком, ей вдруг нестерпимо захотелось, чтобы — именно здесь, теперь — муж ее увидел... И так случалось не раз. Она ловила в себе иногда мстительное чувство по отношению к Огородникову, но чаще ей бывало его жаль. Жаль так же, как и себя, прежнюю, замурыженную повседневными заботами, больницей, очередями, готовкой—до полуночи— бесконечных завтраков, обедов, мытьем посуды... Ей было жаль и его той самой жалостью. Она — Лиля ;шала это — не сумела сделать Огородникова счастливым, у него давно не замирало дыхание, не темнели от страсти глаза, давно, а может быть, и никогда не бормотал он тех бессмысленных, милых, похожих на журчание арыка, слов, которые выплескивал Костровский. И — нет, никогда она не ощущала себя с ним такой вот — дарящей счастье, властной, обладающей бесценным сокровищем... Каким? Самой собой.