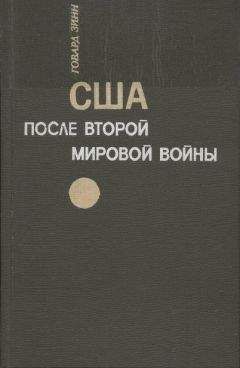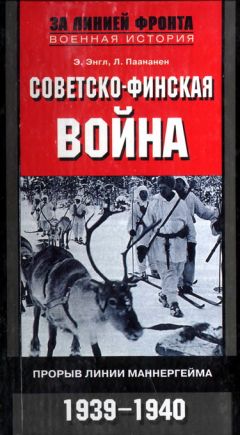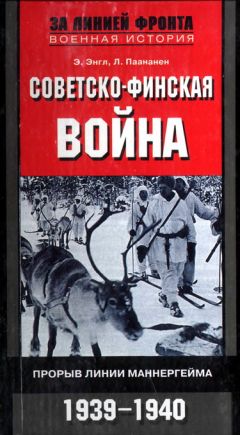Альфонсо Микельсен - Избранные
— Так, значит, обо мне много говорили как о враждебно настроенном иностранце? — спросил я Переса. — А мое имя конкретно называлось?
— Да. Даже возникла дискуссия, являетесь ли вы или нет врагом борющихся против нацизма стран. Пришлось вспомнить, чтобы избежать неясностей, что вам пришлось покинуть Германию из-за Гитлера. Кто-то из присутствующих вспомнил, что вас подозревали в неарийском происхождении. Фриц уточнил присутствующим, что это соответствует истине, но только по материнской линии, и что вашей отцовской ветвью были немцы. Представляете себе, что могло бы получиться, если бы решили всерьез заняться изучением вашего дела… Единственно, чего не хватало на этом заседании, так это ваших рентгеновских снимков!
— Немыслимо! — воскликнул я, до глубины души возмущенный. — Ведь речь идет лишь об управлении фабрикой. При чем же здесь мои предки?!
— Вы до сих пор не знаете нас, — коротко ответил Перес.
То, что он рассказал, было ужасно. Отчет и доклад управляющего о финансовом положении «Ла Сентраль» занял всего полчаса. Значит, все остальное время собрание жонглировало моим именем, вспоминая моих предков и ползая по ветвям моего генеалогического древа!
Я подумал, что собрание правления «Ла Сентраль», посвященное моей скромной персоне, немедленно получит самую широкую огласку. Те, кому еще не было известно о включении меня в зловещие списки, тут же об этом узнают и постараются поскорее отказать мне в своей дружбе.
Как же быть? Как я смогу рассеять заблуждение и снять с себя столь неоправданное обвинение? Слова Переса звучали в ушах: «…до сих пор не знаете нас».
На следующий день газета политической партии, к которой принадлежал Вильясеньор, жирным шрифтом сообщила о патриотическом выступлении «нашего замечательного трибуна молодежи, который, положив свое будущее на алтарь морали и человечности, не позволил осуществиться мрачным замыслам опасного иностранца».
Затем в очень обтекаемой форме та же газета излагала прения, рассыпавшись напоследок в горячих поздравлениях Лаинесу — «благороднейшему и бескорыстнейшему рыцарю чести», который не колеблясь вышел из игры, «как только обнаружил, что ему уготована роль троянского коня».
Прочитав все эти панегирики и остракизмы, я попытался связаться с доном Диего, чтобы просить его поместить в прессе хотя бы несколько строк в мою защиту и разъяснить предшествовавшие события. Дон Диего опередил меня и, едва поздоровавшись, изложил мне свою точку зрения на случившееся:
— Наша группировка не смогла добиться полной победы, так как в дело было впутано слишком много людей. Пришлось вырывать буквально зубами хоть какой-то кусок! Однако благодаря уступкам, которые были сделаны в ходе дебатов, мы частично все победили. Учитывая, что я введен в состав правления, я смогу теперь осуществлять контроль над действиями Фрица.
— Прекрасно, но мне-то что теперь прикажете делать? Обо мне наговорили так много!
— Не волнуйтесь. Все это не имеет значения. Завтра об этом никто и не вспомнит. У нас не принимают всерьез то, что печатают газеты, все читатели к тому же хорошо понимают, что Вильясеньор пытается создать себе рекламу на политическом поприще.
— Все так. Однако мне хотелось бы, чтобы вы написали в редакцию газеты и четко разъяснили мою позицию во всем этом деле.
— Не следует так поступать! — заверил он меня. — Если мы напишем в газету, дискуссия вспыхнет с новой силой, и уж тогда действительно никто не забудет о вашей истории. Давайте помолчим, пока не кончится газетный ливень.
…То был голос опытного проводника, способного не заблудиться в глухих джунглях. Голос, который завораживал меня…
«Пока не кончится газетный ливень»… Когда речь шла о лжи, о подрыве авторитетов, так вел себя каждый. «Моя история» такая же, как и многие другие. Обман или интриги — язык sui generis[23] этого мира.
Общеизвестно, что нет большего оскорбления для человека, чем слово «лжец». Британский джентльмен, например, никогда не решится в публичном месте сказать другому «вы лжете», если окончательно не решил порвать с ним все связи. Здесь же, в клубе «Атлантик», я нередко удивлялся тому, что собеседники говорили друг другу: «Ну не ври!», «Не верьте ей! Она — величайшая лгунья!» Причем говорили даже с какой-то ласковой интонацией, подразумевающей одобрение. «Ну ладно, ты — хитрее меня!» Или: «Вы ведь знаете, она — очень ловкая дама!»
Вранье здесь было целой наукой, и ею позволялось злоупотреблять, не боясь никакой кары. Искусно пользоваться ложью значило владеть определенной мерой интеллекта; как будто речь шла о виртуозе, в совершенстве владеющем музыкальным инструментом. Клевета — одно из проявлений лжи — была возведена местными политиканами в степень добродетели.
Среди высших классов этой страны стиль поведения, каким обладал Вильясеньор, не считался предосудительным. Более того, к нему относились как к талантливому и многообещающему политику.
Надо отметить, что здесь член парламента, сенатор или даже просто оратор в воображении человека улицы — не просто специалист, овладевший вершинами красноречия и искусством ведения спора. В нем видят личность, способную разрешать любые проблемы окружающих. Самым желанным гостем на всех приемах в высшем свете здесь считается так называемый «causeur»[24], а вернее, самый главный сплетник. Тот, кто способен в статье или в беседе ловко ввернутыми метафорами и сарказмом уничтожить чью-то репутацию, заслуживал в этом мире всеобщее восхищение.
— Что же подумают обо мне мои друзья, не говоря уже о членах клуба «Атлантик»? — спросил я снова у дона Диего, который все втолковывал мне, что нам не следует вносить разъяснения после речи Вильясеньора.
— Ах да! Об этом я тоже хотел поговорить с вами. Видите ли, вам лучше не появляться в эти дни в клубе… Пусть пройдет хотя бы месяц, и все забудут о вчерашнем случае.
Тот самый мир, который принял меня с распростертыми объятиями, когда я был богат и моя дружба могла принести выгоду, теперь отвернулся от меня.
…Говорят, что обезьяны плачут, когда одна из них падает с дерева, сраженная пулей охотника. У людей иное. Кто стоит на верху общества, глух к чужому несчастью. Лаинес первым сказал мне, что отныне они не хотят иметь со мной более ничего общего.
Я вернулся в сомнительной чистоты спальню, которую занимал в номерах «Ле Тукэ». Впервые мне стала ясна вся грандиозность скандала, возникшего вокруг моего имени. Я понял, какие последствия могут иметь для меня американские «черные списки». Единственное, что мне пришло в голову в тот момент, это позвонить Бетете и спросить его, чем закончились переговоры с Мьюиром.
— Пока еще ничего не могу сказать. Но все идет хорошо! Очень хорошо!
И как иногда случается, как раз в этот момент появился человек, со стороны которого я меньше всего мог ожидать поддержки. Моя жизнь изменилась; я бросился к этому человеку, как измученный жаждой и палящей жарой путник — к оазису.
XVII
— Говорит Ольга. Вы очень заняты? Я хочу видеть вас сегодня вечером. Мы могли бы поужинать вместе?
— Удивительное создание! Вы уверены, что не заставите меня вновь ждать напрасно?
— Совершенно уверена!
— Где же мы встретимся?
— Если у вас есть машина, подождите меня в семь вечера за углом салона. Мне надо кое-что сказать вам.
— Хорошо. Буду в семь.
— У вас все та же машина, в которой мы ездили однажды?
— Да, черный «шевроле».
— Значит, ровно в семь.
Вот так, совершенно неожиданно, когда я не предполагал, что снова увижу ее, появилась Ольга. Сама позвонила мне, сама назначила свидание. У меня не возникло никаких сомнений относительно того, что она действительно хочет меня видеть. Вначале я, правда, подумал, что она опять попросит меня одолжить ей денег, как это уже было. Тем не менее я принял ее приглашение без всяких раздумий. Уверенный, почти властный тон, которым она просила о свидании, свидетельствовал, что она действительно хочет видеть меня.
Я немедленно побежал за своей машиной, находившейся в тот момент в мастерской. Несмотря на то что она была еще не отремонтирована и не было вставлено выбитое стекло, я поехал в условленное место и стал ждать. Как всегда, я прибыл первым, за несколько минут до назначенного часа. Мне пришлось прослушать по радио очередную модную песенку. Пробило семь. Я стал следить за прохожими. Прошло еще пять минут. Десять. Четверть часа. Ольги все не было.
«Вновь попался, как дитя. В пятый раз!» — подумал я, раздосадованный своей доверчивостью. И в этот момент я увидел на другой стороне улицы Ольгу. На ней был серый костюм, на голове — шелковая косынка; как будто она только вымыла голову и не успела высушить волосы.