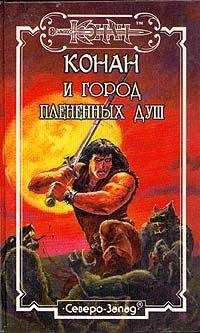Павел Крусанов - Мертвый язык
– Рома, – с поднятой рюмкой в руке восторженно обомлел Егор, – где ты берешь такой отличный гашиш?
4
– Ты смогла бы? Скажи честно, смогла бы бросить все – домашних, новых русских бабок в телевизоре, учебу, суши на палочках, парикмахерские и салоны по доработке красоты, мемуары рублевских сучек на серой, как их жизнь, бумаге, грохочущие клубы, где демонстрируешь себя перед придурками за плату их пошлейшего внимания, дебильные ток-шоу, разыгранные по сценариям копеечных писак, журнальный глянец в стиле высокого идиотизма с туфельками, сумочками, трусиками – всю эту бездыханную культурку, словом, – и, конечно, принцев, гордо восседающих в “инфинити” цвета парной говядины? То есть не бросить даже, а просто изменить конфигурацию зависимости. Смогла бы? – Катенька хотела знать.
– Поверить не могу, – красиво улыбалась Настя. – Неужто Тарарам тебя так всю перевернул?
– Ты не увиливай, подружка. Я спросила, и вопрос стоит.
– Мне кажется, это совсем не сложно. Напротив – даже любопытно и… заманчиво. Ты ведь при этом не уходишь в скит. Ты только меняешь правила той жизни, которую живешь. И, стало быть, саму жизнь меняешь тоже.
– А что менять-то? Рома говорит: делай то, что любишь… Выходит, именно отсюда должна для каждого начаться революция в его отдельно взятой жизни. Но мне, скажем, хочется нравиться. Мужчинам. И вообще всем. Мне нравится нравиться. Я люблю нравиться. И я делаю то, что люблю, – иду в парикмахерскую, где меня стригут и расчесывают, в салон, где меня полируют, выбираю туфельки и сумочку (а чтобы знать, что выбрать, листаю журнальный глянец), после чего отправляюсь в клуб, где дефилирую мимо мужчин, как медалистка на собачьей ярмарке. И когда я забираю себе их внимание, мне это лестно. Это словно бы еще одна медаль. Что же мне следует менять? Ну да, учеба и всякие обязанности семейно-домашнего толка тут оказываются лишними. Это бремя для той жизни, о которой я говорю. Их, что ли, бросить? Но ведь родных чтить – общий долг.
– Неправильно. Не про родных, а в самом существе. Все, о чем ты говоришь, – все это внешнее. Если на этом ярусе что-либо менять, выйдет не перерождение, а так – наружная перелицовка. Ты сделай вдох и загляни поглубже. – Настя замолкла, видимо, намереваясь рассказать, что там таится, в глубине, но отчего-то передумала. – А если не можешь, вспомни, что ты не китайская хохлатка с собачьими медалями на шее, а женщина. Стань женщиной и полюби то, что любит твой мужчина. Доверься его бездне. И сделай это честно, без оглядки. Тут нет ничего стыдного. Напротив. Если мужчина такой, как Тарарам, а женщина такая, как ты, – для нее в этом достоинство и спасение. Иди за ним по его пути – это и будет твое дело, построенное на любви, это и будет главное твое преображение.
– Вот, молодец. Все точно как сказала. Я ведь, на самом деле, проверить себя хотела в верности решения. И я молодец – иная бы обиделась, а я тебе за твои слова спасибо говорю. Я ведь и впрямь глубины в себе не вижу. То есть, она, конечно, есть, иначе откуда столько сильных переживаний и прозрений интуиции, чутья, инстинкта?… Но я глубину свою не могу осознать. Чувствовать чувствую, а умом никак не ухвачу. Понимаешь? Вот ведь свинство какое!
– Как не понять, для нашей сестры это обычное дело. Ведь если подумать, себя постичь для нас не так и важно. Другое важно.
– Ну-ка, ну-ка…
– Да это ж прописи – важно, чтобы любили. И чтобы самой любить. Самой любить, может, даже важнее. Для нашей сестры смерть не так страшна, как страшно, если вдруг это мимо пройдет. Поэтому мы за последнее никудышное дерьмо цепляемся руками и ногами, если только покажется, если только хоть намек один блеснет, что тут не просто так, что тут оно самое… И это от возраста не зависит – так и в шестнадцать, и в сорок, и в семьдесят случается. Потому что время, увы, не властно над нашей глупостью.
– Но это же не тот случай.
– О чем ты? – не поняла Настя.
– Я про никудышное дерьмо. Что это не про нас с тобой. То есть не про Тарарамушку с Егоркой. Наши-то, глянь – самые лучшенькие. – И Катенька указала на Тарарама и Егора. С двумя бутылками сухого вина и одноразовыми стаканчиками в руках они бодро шагали со стороны магазина к скамейке в садике у ТЮЗа, где Катенька с Настей ожидали гонцов.
5
– Але.
– Привет, это я, – сказал Тарарам из телефона.
– Привет, – узнал Егор.
– Я решил – не надо тянуть. Завтра же пойду под душ Ставрогина.
– Понятное дело – надо стать чистым, чтобы внутренний житель позволил взять свое. – Слова Егора прозвучали иронично – в большей степени, чем сам он этого хотел.
– Мне вообще первым надо было туда прыгнуть. Потому что… Неважно, в общем. Сопроводишь?
– Конечно. И Настю с Катенькой приведу. А ты точно знаешь, чего хочешь? У Насти-то, видал, какой конфуз с мечтой случился. Хорошо, хоть Катеньку отставили – подумать страшно, чего ей может захотеться…
– У меня с желаниями – порядок. Барышень бери, но больше, как уговаривались, никому ни слова. И женским людям напомни, чтобы языком не мели. Нам накладки ни к чему – спешить надо. Я чувствую… – Тарарам помолчал, словно прислушиваясь к ощущениям, после чего переменил тему: – Прикинь, придумал отличное название для автомойки: “Катарсис”.
– Что ты чувствуешь?
– У мира кончается срок годности. Уже кончился.
– Как это?
– Понимаешь, время – это такое транспортное средство. Как бы самолет, который несет тебя в себе независимо от твоего желания. И, как у самолета, у времени нет заднего хода. Время, в котором мы летим без своего на то желания, выработало свой ресурс, оно падает и, падая, разваливается на части, сгорает вместе с нами. Пора пересаживаться в спасательную капсулу – другое время, другой мир. Но сначала другое время надо родить. Надо дать ему закон. Тогда мы и те, кто примет закон, снова полетим.
– А если не пересядем – крышка?
– Что-то вроде того. Долгая, некрасивая, бессмысленная крышка, которая уже почти захлопнулась. Унылый путь к могиле.
– Надеюсь, в новом мире с его новым временем путь к могиле будет бодрым и полным счастливого смысла, – сказал Егор и пояснил: – Шучу.
– Раз так шутишь, скажи, что бы ты завещал, ударь тебе в голову такая мысль, написать на своем могильном камне?
– Автоэпитафия? Не думал в эту сторону. Впрочем… Может, чтобы осадить грядущего Федорова, так: “Возвращаться – плохая примета”. А ты?
– Только одно слово – “Покой”.
ТРЕВОГА
Спецслужбы коммунального хозяйства убили крысу. В мире, принявшем меня, ветер перемен, за правду и закон, есть службы, сводящие набрис на нет.
Здесь, в городе, который не сдается, то вспыхивая пламенем нелепой беззаветности и смехотворного служения, то тлея ненавистным углем бессребреничества и любви, неладно что-то снова. Особой, исключившей из себя меня неладностью. Отринувшей меня и мой неутолимый голод. Здесь появилось белое пятно, очаг сопротивления, зона слепящего света. И возня возле него. Так не противились давно мне.
Когда соблазн, мой главный инструмент, бессилен перед упрямством поборников долга, я спускаю с цепи псов расплаты.
Когда любовь уводит от меня мою добычу и делает ее глухой ко лжи, я извлекаю бич и возвращаю заблудшую скотину в стадо.
Но белое пятно, зародыш мира без меня, – изделие нечеловеческого свойства. Я чувствую его присутствие – но где он? Он возвращает мне мой взгляд пустым. Он – сгусток той природы, что не приемлет ни меня, ни память обо мне. Что будет, если он поглотит мою паству, а ту подлунную, где я царю, погасит, обратит в пустую тьму? Что будет, если он займет мое пространство, а мой пустынный мир, где я – единственный его насельник, запрет в темнице сухого черного зерна? И не даст зерну упасть на почву? Не даст выпустить корни греха?
Не будет этого. Тревога бодрит и распаляет голод. Отчаяние незнакомо мне. Свое я навсегда оставлю за собой. Я хохочу – меня, ветер перемен, никогда не коснутся перемены. Любой очаг сопротивления мои спецслужбы погасят кровью и мочой. Эта работа веселит сердца преданных мне псов расплаты. Я их уже спустил со своры. И расправил бич.
Глава 10. “Тарарамушка, милый…”
За синим забором, на стройплощадке, образовавшейся на месте Невских бань, непривычной конструкции механизм с гибкой и толстой отводной/приводной кишкой ввинчивал в грунт сваю, как ввинчивают шуруп в гуляющую половицу. Технический прогресс шагал широкими шагами и оставлял мертвящие следы. Петербургская земля была здесь неустойчивая, зыбкая, но очень дорогая. Скоро на этом месте распустится очередной пузырь самодовольства и достатка. Зеркально-бетонный пузырь, надутый не стремлением к гармонии и красоте, а суетной тщетой и выдаваемой за дело, за разумную необходимость, за цивилизованную предприимчивость сиюминутной корыстью. Думать об этом Роме было неприятно, а временами и вовсе противно. Он старался не думать. Но…