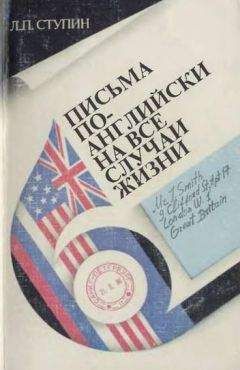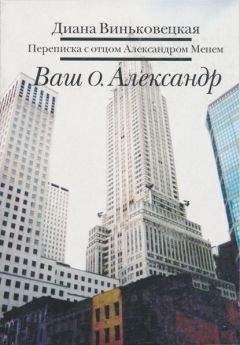Мулуд Маммери - Избранное
Послушай! Хватит! Избавь меня от этого. Что? Ты настаиваешь? Тогда нечего ходить вокруг да около. Ты говоришь, что носишь ребенка (да, я знаю, так говорили, пожалуй, во времена Боссюэ), кто докажет мне, что он мой, я хочу сказать — от меня, потому что быть его владельцем не самое большое мое желание, я лишен чувства собственности. Если бы я не был отвратительным, сытым, притаившимся буржуа, пасующим перед нищетой и неспособным сделать усилие, я стал бы коммунистом. Нет, что меня ужасает — так это быть с самого начала автором, я хочу сказать, нести за это ответственность. Я не хочу совершать преступления, производя на свет еще одного несчастного. На земле есть три миллиарда бедняг, они пребывают в нищете и тем не менее развлекаются, пытаясь сделать свою нищету более опасной, усугубляя несчастье других, разумеется…
Видишь ли, кто мне докажет, что в течение пяти месяцев, которые ты провела в Париже одна, ты благоразумно сидела, ожидая меня, думая обо мне? Париж город большой, там полно молодых и белокурых, как ты. Ты должна была узнавать себя в голубизне их глаз. А у меня глаза карие, хотя ты говоришь, что они черные, потому что они не светлые, вот и все. Так что?..
— Здравствуй, мой цветочек!
Башир подскочил. На этот раз он даже не слышал, как она постучала.
— А…
Почему у него такой глухой голос?
— Посмотри-ка, тебе письмо. Я достала его из почтового ящика, когда проходила мимо. — И тут же засуетилась. — Вечно у тебя все надо приводить в порядок.
Это были те же слова, которые она произносила каждый день, но сегодня они звучали фальшиво.
— Что же ты не читаешь письмо?
— Это от Рамдана. Я заранее знаю, что в нем: урок марксизма.
— Здесь никого нет, с кем же ты говорил?
— Ни с кем.
— А мне показалось, что я слышала твой голос.
— Тебе слышатся голоса?
Солнце играло в оттенках ее белокурых волос, ниспадавших на оранжевый свитер, который когда-то ему нравился.
— Ты не очень разговорчив.
— Это из-за работы. Я врач, это довольно гнусно.
— Конечно! Разве кто-нибудь когда-нибудь доволен своей работой? А тебе, тебе следовало бы быть пашой: деньги, власть, подушки, на которых можно растянуться, благовония и хорошенькие женщины… Много хорошеньких женщин.
— На несколько дней, возможно, но потом это мне наскучило бы. Но что у меня за работа — всю жизнь наблюдать человеческий род, и всегда в самом худшем виде. Я вижу людей только тогда, когда у них что-нибудь не в порядке: больной за больным, и так весь день… а назавтра все начинается сначала.
— Люди более человечны, когда они больны.
Он подавил раздражение, которое каждый раз вызывало у него то, что он именовал розово-конфетными идеями Клод. Для Клод все пейзажи были чудесными, дети славными, друзья милыми, а платья восхитительными. Столь нарочитое пристрастие оставляло у него на губах пресно-сладкий привкус сиропа.
— Человечны? Они никогда не бывают человечными. У них нет времени.
Ну вот, он заговорил как Рамдан. Тем не менее это была правда — у его больных не было времени на человечность. От зари до темна, каждый день, весь год они дрались врукопашную со своей нищетой. Только для того, чтобы выжить, им нужно быть грубыми, неотесанными, жестокими, нечестными, бесстыдно лгать и воровать без зазрения совести. Самозащищаясь, они усугубили все уродства мира, все, что есть в нем позорного, бессильного, ущербного, бессмысленного, все, что в нем не ладится, все, что плохо или очень плохо. А что же им делать? Для них это вопрос жизни и смерти.
— Облегчать страдания — это прекрасно.
О да! Для нее все было ясно, она жила в согласии с миром, с такими, как она, с самой собой, без проблем, без дыр на чулках, без ненависти и даже без любви, наверное, и в ее глазах мир делился на больных и здоровых, а уж вовсе не на избранных и отверженных. Разумеется, обладая подобной уверенностью, терзаться нечего, можно иметь ребенка. Достаточно напичкать его нужным количеством витаминов и антибиотиков, сделать ему все прививки и уколы, окружить его заботами, чтобы впоследствии он оказался в числе здоровых. И никаких проблем! Мадемуазель не задумывалась над тем, как его назовут, каким будет его общество, с кем или против кого он пойдет, какие он узнает наслаждения, страдания, предрассудки и что это за жизнь, если ничего не знать, не иметь надежды узнать…
— О чем ты думаешь?
— О тебе.
— Я здесь…
— Поди сюда!
Он любил гладить ее длинные волосы. Надо сказать ей! Надо сказать ей сейчас же. Иначе будет поздно, я забуду все доводы… или передумаю.
— Знаешь, — сказала она, — я получила письмо… сегодня утром… от тетушки.
— Что она пишет?
— Что идет дождь и что она мечтает о солнечной стране.
— Пригласи ее к нам.
— Это кстати…
— Что кстати?
— Она приезжает пароходом «Сиди-Брахим» в понедельник, в семнадцать тридцать.
Башир сразу все понял. Тетушка всего лишь ответила на письмо Клод, письмо, в котором Клод объясняла: «Понимаешь, положение, в котором я нахожусь — (она, конечно, написала „интересное положение“. Он терпеть не мог подобных „выражений“, как сказала бы Клод. Выражений, которые отдавали самодовольством, пышной глупостью, ложной благовоспитанностью, бесстыдством), — вызывает необходимость принять решение, а он — ты ведь знаешь его — нерешительный, неопределенный, уклончивый, дилетант и эгоист, хоть сдохни. Главное, не нужно усложнять! Ребенок, конечно, будет орать, и уж это одно могло бы меня остановить. Да, он будет орать, но ведь это так мило, как ты думаешь, тетушка? И уж будь так любезна, тетя Нуну, не обрушивай на меня воскресную проповедь и увещевания. Не заводи старую песню. Не говори мне: „Клод, ты же большая девочка! Нужно было раньше думать, подобные союзы с людьми, которые так на нас не похожи, никогда еще ни к чему хорошему не приводили… и т. д. и т. д…“ Все это я знаю, но ни о чем не жалею, во всяком случае, жалеть уже поздно. Итак, милая тетя, приезжай, приезжай скорее, он тебя послушает, ты умеешь с ним говорить, а я недостаточно умна, или не так уж хитроумна, или недостаточно… просто не знаю… но мне не удается заставить его решиться. И потом, ты ведь ни разу не путешествовала по морю, и ты увидишь, как здесь красиво и светло, и солнышко, и смуглые ребятишки, чумазые и красивые, синее море, сиреневое небо, прекрасные виды, огни по вечерам, когда последний луч света падает на Айн-Тайю. Ты услышишь жемчужный лепет воды! Ну вот! Я попыталась соблазнить тебя, попробовала стать поэтом, чтобы привлечь тебя… как Орфей… Ну что, тетя? Ты приедешь?»
— А знаешь, что она пишет?
— Ты мне только что сказала.
— Да. Она еще добавила: «Я приеду на твою свадьбу».
Ну вот, пожалуйста! Ему следовало бы сказать ей все с самого начала, не дать ей заговорить первой, чтобы сразу же не оказаться в ее власти. Потому что в конечном счете он обещал ей эту свадьбу… или почти обещал… в общем, он уже не знал, но это было так глупо…
Это было в воскресенье. Накануне она ему сказала: «Хочешь, поедем завтра к моей тетушке? Это рядом с Туром. Она живет в деревне, среди коров, сена и лошадей. Она восхитительна, вот увидишь, она раскатисто произносит „р“ и сама печет хлеб». И они поехали туда. Это он-то, который терпеть не мог деревню! Деревья, цветы, зеленая трава, ручейки, птицы, сено, мычание коров — черт знает какой маскарад! Спокойно говорить об этом могут только горожане, потому что они не испытали всего этого.
Деревня — это изобретение горожан! Вся-то она расфуфырена, разнаряжена, разукрашена. В деревне, придуманной горожанами, вечно царит праздник, там зелено до бесчувствия или жарко так, что можно расплавиться. В деревне, прилизанной воображением горожан, нет ни возов грязи, ни роев мух, ни навозных куч, ни нечистот, равно как нет там воспаленных глаз, запаха дерьма, людей, настолько пригнутых к земле (горожанин именует землю «нивой»), что они едва отличаются от своего скота.
Он-то ее знал, деревню! Он там родился, провел там свое детство. В деревне Тала, маленьком глухом селении, затерянном где-то на голубой горе, которой Клод любовалась с балкона, вглядываясь в даль. «Это там твоя гора? Когда ты свезешь меня туда?»
Он приготовился проскучать весь день в зеленой деревне тетушки из Тура и постараться побыстрее скоротать томительное весеннее воскресенье.
Этот день не вернуть. Он не мог припомнить ничего в отдельности, ведь у счастья все так просто. Тетушка раскатисто произносила «р» и сама готовила вкусную свинину; приятно пахло сеном, ручейки были серебряными, как в книгах, в старом доме пахло горячим хлебом, забытой лавандой, ароматом прежних лет. Вернувшись вечером, он словно опьянел от весны, чувствовал себя благородным и добрым, нежным, в согласии с зеленью трав, соком деревьев и говором ручейков. Он вошел к мадам Котар и сказал, держа Клод за руку: