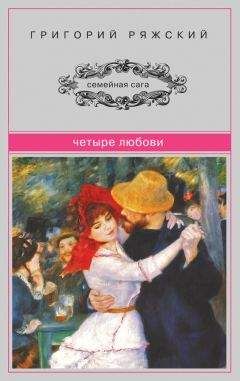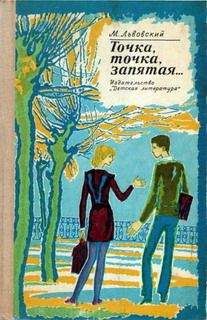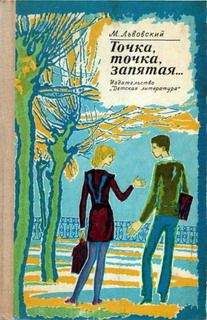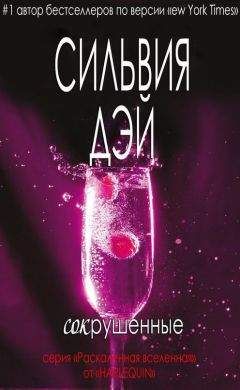Григорий Ряжский - Дивертисмент братьев Лунио
– Ну ты мне давай не вешай лишнего, Гиршбаум, – почти рассердился Маркелов, но всё же удержал себя в руках. – Сержант – не сержант, младший – старший, какая кому разница? Да хоть генерал, мне по хер. А сказал я это так, к слову. Сказал и сказал. Мог рядовым тебя назвать. Тебе так что, спокойней?
– Тогда, может, другое слово скажете? – спросил я, пожав плечами. – За меня? Про то, как всё было. Да, отправил на фронт. Да, раньше возраста, в виде исключения. Да, был у него в квартире на Фонтанке и получил неоформленное вспомоществование в виде мешка дефицитного продовольствия, пущенного на восстановление слабых и больных. Или куда там вы его пустили, не знаю, мне всё равно было, я просто хотел на фронт. А попал сюда. Даже довоевать не успел, Григорий Емельяныч!
– Так, ясно! – он встал и посмотрел на часы. – Ты хоть понимаешь, сержант, что против меня ты моська, или не понимаешь? Что я тебя задавлю одним пуком своим, полмизинцем, если выступать начнёшь? А ты тут про было – не было. Ты что, совсем чокнутый, а, сержант? Ты понимаешь, куда лезешь хотя бы?
Я постарался сохранить спокойствие, никак не отреагировав на эти его слова. И спокойно так сказал ему:
– Я, товарищ полковник, абсолютно нормальный, просто я думал, что мы оба с вами за справедливость. А оказалось, только я один. Но никто ведь по советскому законодательству не имеет права запретить гражданину, даже если он заключённый, обратиться с прошением к товарищу Берия и изложить историю про то, как за продуктовую взятку помощник военного комиссара в блокадном Ленинграде отправляет на фронт несовершеннолетнего парня, пережившего в этом городе всю блокаду, от первого до последнего дня, и простоявшего на конвейере Кировского завода два полных года, собирая танки для нашей победы. Парня, которого должны были представить к награде за доблестный труд в это страшное для нашей страны время. Как вы считаете, товарищ полковник, что товарищ Берия подумает, когда прочитает это обращение из лагеря? Крик этот самый о последней надежде в поиске справедливости. А к письму я приложу ещё ту самую бумажку, на которой вашей рукой написано, что мне делать и куда идти оформляться на отправку, на сборный пункт.
Эта было неправдой, бумажки той не сохранилось, но Маркелов не мог об этом знать. Как не знал и того, насколько к словам моим нужно отнестись серьёзно. И по тому, как сел обратно на стул, я понял, что отнёсся он к этому достаточно серьёзно.
– И чего ж ты не отдал следователю бумажку ту? – ухмыльнулся он, ожидая, что я ему на это отвечу.
Ответ мой мог означать для него и для меня многое. Можно сказать, самое в этом разговоре главное. Но я уже сообразил что сказать. И сказал:
– Просто я вспомнил об этом только недавно. Думал, выбросил документ этот. – Тогда я специально назвал ту бумажку документом, для пущей значимости. – А теперь вспомнил, где она, я сложил свои ценные вещи и отдал на хранение родственнице, так вот туда и поместил документ ваш, точно помню теперь. Там он, наверное, и лежит, да? – И, выдавив на лице улыбку, нагло спросил: – А можно, чтобы мне поесть принесли, Григорий Емельяныч?
А для себя загадал – распорядится, значит, слов моих в том или ином виде остерегается и можно торговаться. Если нет, тогда всё, считай, кончено. Мне его всё равно не одолеть, паскудину такую.
Маркелов приоткрыл дверь и что-то сказал поджидавшему меня конвоиру. Тот исчез, и через какое-то время принесли еду: открытую банку тушёнки с всунутой внутрь вилкой, рисовую кашу на молоке с ложкой и хлеб. И чай в стакане с двумя кусками колотого сахара на блюдце. Такого же, какой у меня на Фонтаке стоял, в четырёх мешках, в неколотых головках.
Я ел, жадно, запихивая в рот всё подряд, кашу эту божественную, консервы эти небесные небывалые, сахар грыз и глотал, не жуя. Чай оставил на потом, хотел успеть набить живот едой, не водой. Он сидел и молча смотрел, как я уничтожаю принесённую шамовку.
Я закончил, выхлебал вдогонку чай, пустой и уже остывший, и вытер рукавом рот.
– Всё? – спокойным голосом спросил Маркелов. – Пожрал?
Я кивнул. Успел. Теперь можно было и подыхать, даже если с моим планом ничего не выйдет, поскольку то, ради чего стоило подставляться, уже произошло, отыграло и звенело теперь изнутри забытой и болезненной сытостью. Вам этого, ребятки, уже никогда не понять.
– Тогда слушай теперь сюда, Гиршбаум, – отчётливо выговорил Маркелов, продолжив прерванную беседу. – Я тебя внимательно послушал. Всё, что ты тут наворочал, мне не понравилось, не буду скрывать. Знаешь, я подумал, для меня проще тебя просто устранить. Убрать тебя же из твоей дрянной жизни. Ты же в курсе, вероятно, как это несложно делается, особенно здесь. Тем более что начальник здешний – мой однокурсник по училищу. Дружок старый, короче. Но ты мне нравишься, тёзка. Ты парень хваткий и наглый. И я решаю так – живи, чёрт с тобой. Просто накинем тебе червончик, ну, например, за бытовое убийство заключённого, первого, который тут собственными силами окочурится. И сиди себе, строчи письма к Лаврентию Палычу. Только писульки твои далеко не уйдут, ты уж мне поверь, Григорий, я об этом лично теперь позабочусь. А через годок-другой, чаю, сам сдохнешь, от самых естественных причин, второго срока тебе не досидеть, парень. Мало кто двадцатку оттянет всю, немного крепышей таких среди ваших. Вот таким вот образом, товарищ младший сержант.
На этом всё закончилось. Примерно такого я и ожидал, когда осмелился выкрикнуть его имя из строя, ни на что не рассчитывая. И это было ещё хуже, чем просто конец истории. На севере продолжение истории намного страшней и хуже её конца. Мы понимали это оба. И тогда я решил, что время пришло, и использовал свой единственный настоящий шанс.
– Последний вопрос, – сказал я, глядя Маркелову в глаза, и увидел, как он разрешительно кивнул. Уже чувствовал, что выиграл, сука. – У меня есть драгоценности, – начал я так, как обычно начинают герои приключенческих романов, – очень много, очень ценные. Исключительной работы, коллекция моего отца, его многолетний труд... – Маркелов заинтересованно упёр в меня глаза. А я так же неспешно продолжил: – Все они в Ленинграде, в сохранности, там же, кстати, где и ваша бумажка. Тридцать восемь ювелирных изделий, разных, очень дорогих, почти все с драгоценными камнями, брильянты, изумруды и прочее. Всё – золото высшей пробы и платина. И всё превосходной работы, как я уже сказал. Только без меня вы до них не доберётесь. И если со мной кончено, то и с ними, само собой, тоже кончено. Они пролежали всю блокаду, полежат и дальше. Но если у меня в жизни будет всё в порядке, то и с ними всё будет как надо. В смысле, у того будет, к кому они перейдут. – Я выплеснул в рот остатки чая со дна стакана и спросил его, уже совсем серьёзно, так, чтобы точно дошло: – Есть идеи, Григорий Емельяныч?
Полковник оторвался от стула и стал мерить шагами комнату. Я хорошо, очень даже хорошо представлял себе, что в этот момент творилось у него в голове. Примерно такое, думаю: «Парень, похоже, не врёт, отец его правда ювелир, это точно, деньги и всё такое у них были, иначе откуда мешок тот взялся и, скорее всего, не последний был: и до него были мешки такие, и после. И если не верить, уйдёт отложенное. Если же поверить, надо его вытаскивать отсюда, но есть риск – сдаст после с потрохами, если не блефанул, и от себя ещё добавит всякого, реабилитироваться захочет. И придётся убирать, но там сложней, здесь-то как два пальца. Но только что у него есть на меня по большому счёту, если про бумагу ту наплёл? Или не набрехал?»
Тогда я не всё ещё знал, что он мог в голове своей в тот момент проворачивать, это выяснилось уже поздней, в Ленинграде. Кроме того, не ведал я ни о смерти лютого, ни про амнистию понятия не имел, дававшую Маркелову практически неограниченные полномочия в рамках работы его амнистийной комиссии.
@bt-min = Походил он, в общем, туда-сюда, поварил котелком своим, свёл плюсы все мысленные и минусы и говорит мне:
@bt-min = – Вот что, Григорий, тебя сейчас в барак твой отведут, и на работы ты покамест не пойдёшь, а я подумаю, что можно тут предпринять по твоему делу. Разговоры – разговорами, но на случай твой и в самом деле по-разному можно посмотреть, зависит от того, кто смотреть будет. Я с кем надо переговорю и сам ещё раз обмозгую вопрос твой потщательней, а потом тебя вызову и скажу, чего мы с тобой имеем. Понял меня, сержант?
@bt-min = Я уже тогда всё понял, когда он доски передо мной топтал. И чуял, что плюс от моего предожения перевесит минус от его опасения, больно уж сладкий куш ему светил – ни за что, можно сказать, просто за свою же работу.
@bt-min = Долгой пауза не оказалась. На другой день привели меня снова к нему, туда же. Я сел, жду. Волнуюсь, конечно, судьба на кону всё-таки. Да и сама жизнь заодно.
@bt-min = – Значит так, Гиршбаум, – сразу с деловой интонацией в голосе начал Маркелов, – слушай и вникай. Уйдёшь отсюда по амнистии, это я для тебя организую, малолетство твоё припишу, блокадный труд и всё такое. Но пойдёшь как уголовный элемент, по ним у меня есть квота, так будет проще, и мне, и тебе. – Я удивлённо посмотрел на полковника, но он остановил мой взгляд рукой и продолжил: – Статью тебе по прошлой жизни впишем лёгкую, чтобы не слишком последствия на тебе сказались. Акт подпишу тут же, в лагере, и члены комиссии тоже подмахнут, я уже договорился с Чапайкиным. Так что освободишься уже, можно сказать, с завтрашнего дня. И переберёшься сюда, в это помещение. Тут кормиться будешь и спать ещё дня три, пока мы работу свою здесь не закончим по остальному контингенту. Дела изучить надо, как у кого тут и чего. – Я молча слушал, и душа моя не хотела верить тому, что слышали уши мои. Однако я, в отличие от неё, верил. Потому что не душой, а живыми глазами видел перед собой этого человека, который меня сюда же и упёк. И который хотел теперь моего богатства, моего и папиного, очень хотел, но без меня не мог его получить. – И ещё! – он положил ладони на стол, сдвинул их и сжал, скрестив пальцами наверх. – Уедешь отсюда вместе со мной, ты и я, отдельно от других. Едем в Ленинград, ты от меня ни на шаг: имей в виду, документов при тебе не будет, справку об освобождении отдам, только когда сочту нужным. Это ясно? – Я кивнул. – И второй момент. Документы будут на другое имя, придётся фамилию, по крайней мере, поменять, иначе не выгорит. Сечёшь, заключённый?