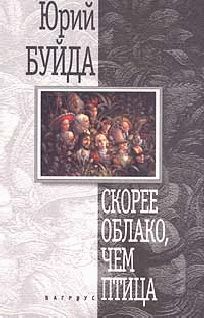Юрий Буйда - Все проплывающие
– Она пошла к тебе? – спросил племянник.
– Не сразу, – сказал старик. – Сначала она разлила керосин по полу. Посидела, подумала. Стала тряпкой пол вытирать. Поймала себя на том, что сходит с ума. Отшвырнула тряпку – и побежала. Сломя голову. Благо до меня было рукой подать. Постучала, вошла и села здесь, у окна, вся пропахшая керосином, дрожащая, плачущая… Да. Чего-то такого я, признаться, ожидал. Не этого, а – такого. Не то чтобы верил, не то чтобы знал… Но ожидал. Это было какое-то безнадежное ожидание чуда. И вот оно случилось. Откуда мне было знать, что настоящие чудеса замешены на крови? Ну, ладно. Случилось. А я тогда сразу и не понял, что нет ничего опаснее чудес. Ибо за ними, хуже того, – в них – Судьба. Рок. Что там еще? Смерть? И смерть. Сигнал. Наконец она рассказала все, что хотела рассказать. С самого начала – и то, что я знал, и то, чего я знать просто не мог. Ей нужно было выговориться, то есть осуществить мечту любого человека: хоть однажды выговорить все, все, что хочется. Как правило, это мало кому удается. Или даже почти никому не удается. Может, оно и к лучшему… не знаю… Но в Гефсиманский сад стремятся все…
– В Гефсиманский сад? – переспросил племянник.
– Это я так для себя называю. Потому что он там ведь не только горе горевал, но и сказал самое заветное, что его больше всего мучило, и уж неважно кому, себе ли, отцу ли. Выговорился, то есть стал наконец самим собой. После этого человек на многое способен. И на подвиг, и на неслыханную подлость. Иуда, может, потому и Иуда, что выговориться не сумел. Ну да это – к слову. В общем, она выговорилась. Утро наступило. Я ее уложил на своей кровати, запер комнату и пошел на работу. Только пришел в парикмахерскую, сразу понял, что к чему. Суббота была, старички в парикмахерскую набились. Здорово, начальник. Здорово, директор. Здоровее видали. Фуфыря нашли. Ну да? Ну да. На чердаке евоном. Лежит себе на топчане, газеткой прикрыт, а газетку подняли – голова набок. Бритвой. До шейных позвонков размахнули. Отсюда – и аж досюда. Понятно. А кто нашел-то? Ахтунг. Кто? Ну, мастер часовой, Ахтунг. Ему-то чего там с ранья понадобилось? Не чего, а кого, ясно? Небось к немке притащился, к соплячке к этой, к Ритке-то. Во шалава. Дела. Ну? Ну. Пришел, а там один Фуфырь зарезанный. Насмерть? Да насмерть же, ясно, башку хоть на блюдо ложь, отчикали бритвой. Бритвой? Ну, чем другим. Чем? Почем знать. Ахтунг в милицию, к Лешке, значит, к Леонтьеву. А тот? А чего тот. Приехал, поглядел, башкой покрутил. Чьей башкой-то? Не евоной же, дурила, своей. Где девчонка, спрашивает, кто видал? Понятно. То-то. То-то же. Во шалава. Фашистка и есть фашистка: семя. Да и Фуфырь, знаешь. Это ясно: только так-то зачем? Все же человек. Живой. Теперь неживой. Теперь неживой, ясно. А девчонка-то где? А кто ее знает. Сбежала со страха. Сколько ей годов-то? Пятнадцать? Шашнадцать? Ну, ясно, от страха полные штаны, спряталась где-нибудь. Ничего, выйдет, найдется. Куда здесь спрячешься? Отыщется. А может, не она. Может. Все может. Только кто ж еще? Марфа тоже говорит: она. А Марфа ей заместо матери. Какая мать свое дите отдаст? Никакая. Вот и Марфа – ревмя ревет, по полу катается, а твердит: она. Она. Правда – она и над кровью правда. Да. В тюрягу посодют или как? За кровь-то? Могут и к вышке. Ребенок же. Могут и не к вышке. Тогда тюряга, на всю катушку. А я б таких своими руками. Мало им на войне наложили. Одно семя. То еще семя. Дурак ты, какое семя? Она-то при чем? А то ни при чем? Ни при чем. Так ведь убила. Да, это – да… Ну, и так далее.
В обед я отпросился у Льва и побежал к Леше Леонтьеву, участковому. А у него уже Марфа сидит, ведьма. Сидит прямо, лицо деревянное. Это она, больше некому. Хорошо, Леша говорит, спасибо. Это она, снова Марфа заводит, не глядя на меня, это она сделала, Леша, отродье это. Пришел ее час, Леша, как и было назначено. Кем? Господом нашим назначено. Господом вашим еще и прощать назначено. Она как и не слышала. Господь привел в дом ее мать. Это он отдал в мои руки эту суку. Он дозволил ей стать такой, какой она стала. Дозволил раскрыться, чтоб мы увидели: вот. Вот. И она раскрылась. И мы увидели. Хотел бы я, Леша говорит, ее увидеть. Теперь пробил час. Леша смолчал. Я тоже. Что теперь делать? А что делать, Леша ей говорит, что делаем, то и делаем. Выясняем, что да как. Это она. Может, и она, а может, и не она. Ага, говорит Марфа, значит, ты так. Ладно. Понятно. Значит, ты выясняешь. Тебе еще не все ясно. Я ж не господь твой, Леша говорит. Понятно, говорит Марфа и встает, тогда я сама. Сама – что? Сама найду эту тварь. Ну и? Но Марфа губы в ниточку – и за порог. Понял? Понял. Так, хмурится Леша, а ты зачем пришел? И я ему все рассказал. Все. Как она – мне, так я – ему, с самого начала, день за днем, год за годом, ничего не пропуская. Рассказываю, а сам загадал: если начнет перебивать, конец ей, зря стараюсь. Он ни разу не перебил. Курил папиросу за папиросой и слушал. Выслушал, помолчал, потом говорит: «Значит, ты хочешь, чтоб я ей поверил. То есть ей и тебе. Это понятно. Ахтунг… Очень может быть. А может и не быть. А? Может. Она зачем убежала? У нее что, мозги от страха перекосились? Ну да ладно. И что дальше? Значит, я должен прийти к этому Ахтунгу и сказать: привет, ты подозреваешься в убийстве, а ну-ка признавайся. Он что, тут же и выложит все? Смешно, да? Он что, бритву выложит? Да она давным-давно в говне, в уборной какой-нибудь, или в речке. Что ж нам – все сортиры чистить? Речку обшаривать? Да даже если она сейчас придет и расскажет, как было дело, – ну и что? Ахтунг спал. Спал, и все тут. Девчонка врет, потому что это она сделала и теперь пытается свалить на другого. Ахтунг утром его нашел, уже кровь засохла, сразу честно в милицию побежал…» Я спрашиваю: «Ты мне веришь, Леша, или нет?» Он на меня посмотрел внимательно, вздохнул. «Ты мне веришь или нет? – заорал я. – Ты что, Риту не знаешь? Ты что, не понимаешь, что ли, что происходит? Меня тогда сажай! Сволочь чертова! Сами вы фашисты! Ты что, не понимаешь, что это убийство? Она же так просто никому в руки не дастся. У нее теперь один выход – понимаешь? Один. Ты этого хочешь? Этого? Она не убивала, Леша!» – «Тихо ты, дурак рыжий, – говорит участковый. – Я ж не глухой». Попыхал папироской. «Да, ребята, задали вы мне кроссворд. Что по вертикали, что по горизонтали. – Потом ни с того ни с сего: – Доктор Шеберстов его вскрывал уже. Ничего такого не нашел. Да…» Молчит, я тоже молчу, ничего не понимаю, слезы глотаю. «В шейном позвонке кусочек бритвы застрял, – продолжает Леонтьев. – Представляешь, как он его ударил? Бритва в позвонке застряла. Когда выдергивал, лезвие выщербилось, в позвонке кусочек бритвы застрял. Вот такусенький». И показывает пальцами: вот такусенький. Я смотрю – ничего не понимаю. Черт бы с ним, с этим кусочком. Что делать-то? Леша вздохнул: «Иди, Яша, разберемся как-нибудь. Работа такая. Жизнь, понимаешь. Надо ж так ударить – до позвонка…» – «И что делать?» – «Ну и вид у тебя, Яша, – говорит Леонтьев. – Совсем плохой. В больницу, что ли, сходил бы, таблеток каких-нибудь попросил бы. Для спокойствия. Шеберстов даст, он мужик с понятием. Ну-ну. Не дергайся. Сходи, сходи к доктору, Яша. А мы все сделаем по правде, по закону». – «По какому закону? – взвыл я. – Ты что?!» – «А как же, Яша? Только по закону». И вытолкал меня за дверь.
Сел я на крыльце, не могу опомниться. Выходит, все напрасно, все зря, все впустую? Выходит, единственный человек, которому она доверилась, ей не помог? Ну не может такого быть. Не должно так быть. Это ж впору чокнуться. С ума сойти. И тут меня словно водой окатили. С ума сойти. Доктор. Боже. Ну да, доктор. И я со всех ног бросился в больницу.
Я не знал, конечно, хватит ли у меня сил на все это, но понимал, что ничего другого мне не остается. Она там лежит в моей комнате, может, уже проснулась и смотрит в потолок, прислушивается, думает… Ужас: думает. Я влетел на второй этаж, постучал, вошел. Шеберстов посмотрел на меня – и захохотал: «Яша, ты никак ежа высрал!» – «Доктор, это не она сделала. Это сделал Ахтунг. Понимаете? Не она». Теперь он уставился на меня как на сумасшедшего. А я опустился на колени и повторил: «Это не она». – «Так, – говорит Шеберстов. – Ты вставай, не то мне дверь придется на замок запереть. Ну». Я не встал. «Смотри. – Пожал плечами. – Это кому как нравится, конечно. Кому на коленях стоять, кому на стуле сидеть». Запер дверь на ключ и сел на стул. «Ну?» И я ему все рассказал. С самого начала. Долго рассказывал. Очень долго. Но другого выхода у меня не было. Повторять всегда труднее, потому что тянет подправить то, что однажды рассказано. А этого нельзя было делать. Рассказал. Замолчал. Во рту пересохло, в горле першит, как песку горячего наелся. «Ага, – говорит Шеберстов. – Допустим. А дальше что?» Я молчу. Он налил мне воды из графина. «Допустим, – снова говорит. – Ключ вот он, дело нехитрое. – Покачал головой. – Яша, я ведь никогда в жизни такого ничего не делал, ты понимаешь? Не понимаешь». – «Понимаю». – «Ага. – Вздохнул. – И все равно? Ну и ну. Знаешь, как это называется? Блеф это называется. Блеф. Ты в карты не играешь? А. Ну вот. Это когда у тебя на руках нет козыря, а ты утверждаешь, что козырь у тебя есть. Правилами это допускается, риск есть риск. Но это карты. А это… – Положил ключ на стекло, которым был накрыт его стол. – Потом-то что? Дело разве в этом обломке? Дело же в самой бритве. Иначе он не сознается». Я открыл сейф. «Рядом с папкой». Я взял бумажный пакетик. «Закрой. И ключ». Я потоптался на пороге. «Иди ты к черту, – сказал он. – Хотел бы я посмотреть на его лицо…»