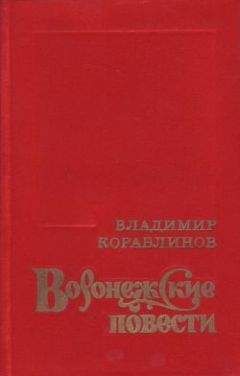Марлен Хаусхофер - Стена
Всю ночь я провела в полусне, грезя, что кровать моя — челнок в бурном море. Это был почти что приступ лихорадки, он изматывал, голова кружилась. Мне все казалось, я падаю в пропасть, мерещились ужасы. И все это — в бушующих волнах, вскоре у меня не осталось сил повторять себе, что все это — не на самом деле. Очень даже на самом, а отказали порядок и рассудок. Под утро Кошка вскочила на кровать и освободила меня от кошмара. Одним ударом с ужасом было покончено, я наконец-то заснула.
Наутро небо заволокло черными тучами, ветер стих, но под облачным пологом было душно, как в парнике. Время еле ползло, густой влажный воздух теснил грудь. Тигр не вернулся. Лукс бродил в печали. Его не так удручал ветер, как мое дурное настроение, делавшее меня чужой и далекой. Сделав в хлеву все, что положено, я силком подняла Беллу, чтобы подоить ее. И Бычок вел себя удивительно беспокойно и непослушно. Переделав все дела, я прилегла. Ведь поспать ночью почти не удалось. Окно и дверь открыты, Лукс прикорнул на пороге, чтобы стеречь мой сон. Я и впрямь уснула и увидела сон, похожий на явь.
Я очутилась в очень светлой, похожей на зал комнате, белой и золотой. По стенам — великолепная барочная мебель, а на полу — драгоценный паркет. Выглянув в окно, я заметила маленький павильон во французском парке. Откуда-то доносилась «Маленькая ночная серенада».[7] Вдруг я поняла, что всего этого уже нет. Навалилось чувство огромной утраты. Чтобы не закричать, я прижала руки ко рту. Тут яркий свет погас, золото потухло, а музыка превратилась в монотонную дробь. Я проснулась. По окнам барабанил дождь. Лежа без движения, я прислушивалась. «Маленькая ночная серенада» растаяла в шуме дождя, мне было не отыскать ее. Просто чудо, что спящий мозг снова вызвал погибший мир к жизни. До сих пор не могу этого постичь.
В тот вечер мы все словно освободились от кошмара. Притащился взъерошенный Тигр, весь в земле и иголках, но умопомрачение его прошло. Громко поведав о пережитых страхах, он напился молока и еле добрался до шкафа. Старая Кошка милостиво дала себя погладить, а Лукс улегся на прежнем месте, убедившись, что я — снова давешнее знакомое существо. Я вытащила старую колоду карт и слушала при свете лампы дождь, стучавший по ставням. Потом подставила под водосточную трубу ведро — набрать воду для мытья головы, сходила в хлев покормить и подоить, а потом легла и крепко проспала до прохладного дождливого утра. Затем несколько дней провела дома: все время шел мелкий дождик. Вымыла голову, волосы стали легкими и чуть волнистыми, а от дождевой воды сделались мягкими и гладкими. Перед зеркалом я коротко подстриглась, так, чтобы уши были едва прикрыты, и разглядывала собственное загорелое лицо под шапкой выгоревших волос. Оно было совсем чужим, похудевшим, со слегка запавшими щеками. Губы стали тоньше, это чужое лицо показалось мне каким-то ущербным. Не было больше никого, кто мог бы любить это лицо, поэтому оно показалось мне абсолютно лишним. Оно голое и убогое, мне было стыдно на него смотреть и не хотелось иметь с ним ничего общего. Животные мои привязаны к моему запаху, голосу и определенным жестам. Лицо спокойно можно отложить в сторону, оно больше не нужно. Эта мысль вызвала ощущение какой-то пустоты, от него непременно нужно избавиться. Я чем-то занялась, говоря себе, что печалиться о лице в моем положении — ребячество, но ощущение утраты чего-то важного не проходило.
На четвертый день дождь стал надоедать и я, памятуя о принесенном им избавлении от южного ветра, сочла себя неблагодарной. Но нельзя было отрицать, что я сыта им по горло, и звери были со мной совершенно согласны. Тут мы очень похожи. Нам бы хотелось, чтобы все время стояла тихая ясная погода, а раз в неделю — дождик, чтобы выспаться. Но никому не было до этого дела, и еще четыре дня пришлось слушать тихую капель и журчанье. Когда мы с Луксом гуляли по лесу, по ногам били мокрые ветки и одежда промокала. В воспоминаниях дождливые дни сливаются иногда в один дождливый день длиною в месяц, когда я безутешно глядела в серое небо. При этом я точно знаю, что за два с половиной года дождь никогда не шел дольше десяти дней кряду.
Тем временем события в хлеву приняли угрожающий оборот. Белла требовала супруга и ревела день напролет. Ничего нового в этом не было, так и прежде случалось, и я привыкла не брать это в голову, раз уж не могла помочь. Не понимаю, отчего я не задумывалась о будущем. Наверное, что-то во мне не давало воли мыслям о том, что в один прекрасный день Бычок станет взрослым. Однако с самого его рождения я ждала этого момента. Так или иначе, но однажды я увидела, как он приближается к матери со вполне недвусмысленными намерениями. Первой реакцией были испуг и раздражение. Он оборвал веревку и стоял передо мной, весь дрожа, с налившимися кровью глазами. Вид, в общем-то говоря, страшный. Тем не менее он дал себя привязать, и ничего больше не случилось.
Я тут же вернулась в дом и села к столу подумать. Ни малейшего представления, как вести себя дальше. Можно ли вообще оставлять их вместе, не принесет ли это вреда Белле, она ведь слабее Бычка? Он становился все настойчивее, Белла, кажется, боится его. Их необходимо разлучить. Как ни желанна была зрелость Бычка, на первых порах она не принесла ничего, кроме досады. Стало ясно, что необходимо соорудить для него в хлеву надежное стойло, откуда он не смог бы вырваться. Досками не обойтись, нужны бревна. Я срубила два молодых деревца, потом поняла, что построить стойло не смогу. Плотничать я не умею. От ярости и разочарования я разревелась, потом принялась искать другой выход. Бычка следует переселить в гараж. Это решение повлекло за собой тяжкие труды. Мне пришлось сложить сено в одной из верхних комнат. Носить оттуда каждый день сено в два хлева было утомительно, а для Бычка переселение означало холод и темноту. Но выбора не было.
Выкопав в гараже сток для нечистот, я положила на землю доски и солому, потом перетащила из хлева вторую кровать, что служила Бычку кормушкой; привыкнуть к потемкам я не смогла, поэтому пропилила в дощатой стене отверстие и застеклила его, укрепив рейками стекло, взятое в одной из комнат. Теперь в гараже стало по крайней мере светло. Потом проконопатила щели в стенах мхом и землей, наполнила кормушку сеном и поставила ушат с водой. А потом привела Бычка. Ни его, ни меня переселение не осчастливило. Он стоял, грустно опустив большую голову и тупо уставясь в пол, ничему не противился. Он не сделал ничего плохого и был наказан за то, что вырос. Не в силах больше слышать рев матери и сына, я ушла с Луксом в лес. Теперь на мою долю приходилось вдвое больше работы и чувство, что я поступаю жестоко. У бедняг не было ничего, кроме друг друга и бесконечной таинственной беседы их теплых тел. Я надеялась, что у Беллы будет теленок и одиночество ее закончится. Положение Бычка было безнадежно.
Через три недели выяснилось, что то ли Бычок был еще недостаточно взрослым, то ли Белла в результате затянувшегося ожидания больше не могла зачать теленка. По правде говоря, я этого до сих пор не знаю. Когда Белла снова принялась реветь, я отвела к ней Бычка, радостно за мной потопавшего. Все время боялась, что Бычок, чего доброго, искалечит или, не дай Бог, убьет свою маленькую нежную мать. Он словно с цепи сорвался. Но Белла, судя по всему, была другого мнения, это немного успокаивало. Через три недели она взревела снова и страшный спектакль повторился. Но никаких результатов снова не было, и я ума не могла приложить, что же делать. Может, Бычку пока вообще нельзя ничего подобного. Я решила подождать еще пару месяцев. Прежде я легче сносила рев Беллы, теперь же, зная, что могу помочь, не могла его слышать. Мне каждый раз приходилось уходить с Луксом как можно дальше в лес. К тому же Бычок был в страшном возбуждении, я едва отваживалась входить к нему. В промежутках он становился прежним большим благовоспитанным теленком, ласкался ко мне и хотел играть. В последующие месяцы я частенько кляла круговорот зачатий и рождений, превративший мой мирный хлев для матери и дитяти в преисподнюю одиночества и припадков умоисступления.
Теперь уж Белла давно не ревет. То ли она действительно носит теленка, то ли стала слишком старой и ей не осталось ничего, кроме тепла хлева, корма, жвачки да иногда неясных воспоминаний, которые постепенно стираются. После всего, что мы вместе пережили, Белла для меня больше, чем просто корова: обездоленная терпеливая сестра, сносящая свой жребий с большим, чем я, достоинством. Честное слово, я желаю ей теленка. Он продлит срок моего заключения и принесет новые заботы, но Белла должна иметь теленка и быть счастливой, и не мне спрашивать, не нарушит ли он моих планов.
Ноябрь и начало декабря полностью ушли на сооружение нового хлева и треволнения по поводу Беллы и Бычка. Ни о каком зимнем покое и речи не было. Я всегда любила животных, но легкой, неглубокой любовью, как то в обычае у горожан. А когда неожиданно осталась с ними один на один, все вдруг переменилось. Говорят, были узники, приручавшие крыс, пауков и мышей и любившие их. Мне кажется, они вели себя так, как и нужно было в такой ситуации. Границу между человеком и животным очень легко преодолеть. Мы все — одна большая семья, и когда мы одиноки и несчастливы, мы с удовольствием принимаем дружбу дальних родственников. Когда им больно, они страдают, как я, как мне, им нужны еда, тепло и немножко ласки.