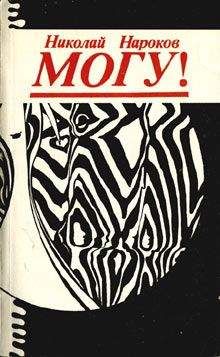Николай Нароков - Мнимые величины
Управление помещалось в здании бывшего института благородных девиц: старый, громадный дом, построенный еще до Крымской войны. Когда им в 1926 году завладело ГПУ, его начали перестраивать и с тех пор беспрестанно что-то переделывали, перегораживали и приспосабливали для новых нужд. Но сада не трогали и даже не прочищали никогда. И сад заглох, задичал, стал угрюмым и неприветливым, но в то же время чудесным своей заброшенностью и запущенностью. Сейчас, осенью, кой-где уже полуголые деревья стояли на золотом ковре опавших листьев, еще не прибитых и не запачканных осенними дождями, и густо пошевеливали обнажающимися ветками. Запыленные, осиротевшие кусты сирени, жимолости и жасмина тянулись к невысокому каменному забору и, загибаясь вдоль него, уходили куда-то дальше, в глубь сада. Чистое небо было уже бледновато, словно и оно увядало, как деревья, и от его побледневшей синевы лилась на землю тихая грусть. Солнца не было видно, оно было сзади, за домом, но его осенне-золотые лучи, казалось, наполняли весь воздух ровным, спокойным светом. В саду было тихо, не по-городскому тихо, и даже было слышно, как ворошилась и попискивала на ближайшем дереве какая-то пичужка.
Если бы Супрунов и Яхонтов почувствовали, что только несколько шагов и только кирпичная стена отделяют грустные деревья, слегка вспотевшую землю, освещенный солнцем воздух и попискивающую пичужку от всего того, что находится здесь, в доме, они закричали бы и завопили, потрясенные немыслимым, химерическим контрастом. Но для них не было ни тишины сада, ни бесшумно падающих багряных листьев, ни темных теней между уходившими вглубь деревьями. Они не видели их, и только поэтому они могли быть теми, кем они были.
Супрунов перегнулся через подоконник (комната была невысоко, над полуподвалом), заглянул вниз и зачем-то пробежал глазами по кустам сирени, которые шли вдоль забора.
— Осень, — совершенно безразличным тоном сказал он, — а слякоти еще нет. Впрочем…
Он присел на подоконник, лицом к комнате, и очень остро глянул на Яхонтова. Тот смотрел в сторону.
— Осень осенью, слякоть слякотью, разговоры разговорами, а дело-то ведь делом! — переменил тон Супрунов. — Ты револьвер с собой взял, как я говорил?
— Взял.
— Дело! И не расставайся с ним… С тобой он?
— Со мной.
— Покажи-ка… Годится?
Яхонтов встал с места и подошел к окну, на ходу доставая из кармана револьвер. Супрунов понимающе осмотрел.
— Сойдет! — сказал он, держа револьвер в левой руке. — На большую дистанцию стрелять ведь все равно не придется. Но мой лучше! — добавил он, доставая из кармана брюк свой револьвер. — А может быть, он и хуже, да только привык я к нему. Каждый день, как правило, упражняюсь, а потому и стреляю, надо тебе знать, совсем ладно: и быстро и метко. Ты хорошо стреляешь? Левой рукой умеешь?
— Левой?
— Да, вот так…
Все остальное произошло чрезвычайно быстро: в две или в три секунды. Супрунов, держа револьвер Яхонтова в левой руке, вдруг выстрелил из него вбок, в сторону своего письменного стола, и почти сейчас же, не дав Яхонтову даже вздрогнуть, быстро, уверенно и четко поднял правую руку со своим револьвером и выстрелил Яхонтову в глаз. Яхонтов тут же упал, а Супрунов удивительно цепко охватил взглядом его упавшую фигуру, что-то мигом оценил в ней и, быстро нагнувшись, подкинул на пол к его правой руке его револьвер. Потом (в ту же секунду) легко и ловко перепрыгнул через тело, бросился к двери и распахнул ее.
— Сюда! — резко и повелительно крикнул он.
Караульный, который привел Яхонтова и который сидел в коридоре у окна, вскочил с места еще при звуке выстрелов и сразу же метушливо и бестолково кинулся к Супрунову на его крик. И из другой двери кто-то выскочил, а за ним еще кто-то.
— Вот гад! — немного задыхаясь от негодования, крикнул Супрунов, ни к кому не обращаясь. — Выстрелил в меня и через окно бежать хотел!
Он повернулся и пошел в свой кабинет. С разных сторон прибежало еще несколько человек и, нервно наталкиваясь друг на друга, пошли за Супруновым, заранее вытягивая головы, чтобы поскорее увидать. Караульный, думая, что на нем лежит какая-то особая, отличающая его обязанность, сделал неестественно серьезное, нахмуренное лицо и, что есть силы сжав пальцами револьвер, вошел с видом полной готовности и даже некоторой самоотверженности.
Яхонтов лежал на полу, слегка подвернув под себя левую руку и широко откинув правую. Кровь несильной струёй вытекала из глаза и текла по щеке.
Супрунов вошел, остро посмотрел на убитого и перевел дыхание.
— А ну, гляньте: жив или нет?
— Доктора позвать?
— Позови… мигом!
Двое наклонились к Яхонтову и стали осматривать его, неумело и даже недоуменно ощупывая.
— На диван положить, что ли? — нерешительно предложив один из них.
— Правильно! Кладите! — распорядился Супрунов. Но чуть только эти двое приподняли тело и сами повернулись к дивану, он словно бы раздумал. — Нет, не ладо! — приказал он. — Кладите на пол, а то еще весь диван кровью попачкаете.
Тело положили опять на пол. Супрунов искоса, но очень метко глянул: первоначальной позы, в которой лежало тело после убийства, уже нельзя было установить.
— Выходит, что убит! — словно чем-то недовольный, пробурчал он. — Он в меня вон оттуда выстрелил, а я…
Но он сразу же осекся и не сказал, откуда стрелял, а повернулся в сторону своего стола и неопределенно поискал глазами по стене.
— Где ж тут его пуля попала? — спросил он сам себя. — А ну, кто найдет? Она вот где-то тут должна быть…
Пулю нашли почти сразу: она пролетела над столом и ударилась в стенку недалеко от кресла Супрунова, на высоте груди стоящего человека.
— Он было бросился к окошку, — счел нужным пояснить Супрунов, хорошо притворяясь слегка взволнованным, — а я вскочил и сразу же за карман. Выхватил револьвер, а он, вероятно, угадал, что уж не успеет через окно перескочить, повернулся и выстрелил. И я в ту же секунду — бах! Только вот он промахнулся, а я — нет…
Вошло еще несколько человек со слегка встревоженным и настороженным видом. Супрунов достал папиросу и закурил.
— Значит, здорово был парень влопавшись! — немного угодливо сказал кто-то, посматривая на Супрунова: услыхал ли?
— Не без того! — подтвердил другой.
— Ну ладно! Лишнего не болтать! — коротко приказал Супрунов.
Вошли караульный и доктор: в белом халате, с дежурства. Он, ни о чем не расспрашивая (главное ему уже успел рассказать по дороге караульный), опустился на колени перед Яхонтовым, натянул ему и без того открытое веко уцелевшего глаза, ковырнул пальцем рану и всмотрелся обдумывающим взглядом. Потом расстегнул Яхонтову жилет и рубашку и приложил стетоскоп к сердцу. Несколько секунд послушал, потом зачем-то согнул в локте правую руку Яхонтова, выпустил ее и решительно встал с колен.
— Наповал! — негромко, но совершенно уверенно сказал он.
— Та-ак! — протянул Супрунов. — Начальнику доложу я сам, а вы скажите, — неопределенно распорядился он, ни к кому не обращаясь, — чтобы вынесли его.
Когда все вышли, Супрунов, очень искренно не видя тела Яхонтова, сразу осунулся и так опустился в кресле, словно ни один мускул не держал его. Он закрыл глаза.
Это была реакция. Яхонтов провел в его кабинете не больше четырех-пяти минут, но эти минуты все время требовали от Супрунова большого и ответственного напряжения во всем: от тона голоса до меткости выстрела. Раньше такое напряжение давалось Супрунову легко, но в последнее время (год и даже больше) после напряжения его всегда охватывала слабость. И кроме того (это было еще хуже), вместе с мускулами ослабевала голова: мозг терял четкость, становился вялым и малоподвижным.
Прошло минут десять. Супрунов открыл глаза, пошевелил плечами, распрямляя их, разгладил ладонями лицо, сильно потерев щеки, и встал с места. Хмуро посмотрел на труп Яхонтова и как-то пренебрежительно дернул плечом. Потом взял трубку с телефона, набрал номер Елены Дмитриевны и вызвал Любкина.
Любкин приехал в управление, выслушал доклад Супрунова нахмурившись, все время что-то соображая и представляя себе то, что произошло. Когда Супрунов кончил, он не сказал ни слова, а долго еще продолжал соображать и взвешивать. Наконец он, очевидно, прощупал все узлы и звенья, остался доволен, с одобрением посмотрел на Супрунова и даже подмигнул ему:
— Комар носа не подточит, а?
— Надо полагать, что не подточит! — довольный собой, но все же как-то холодно ответил Супрунов и погладил свой безукоризненно выбритый подбородок.
Любкин невольно залюбовался им: такой он был крепкий, ладный, подобранный. Но в холоде его тона он почувствовал упрек себе («Ты вот у своей бабы сидел, а я туг черную работу должен был делать!») и считал, что этот упрек заслужен.