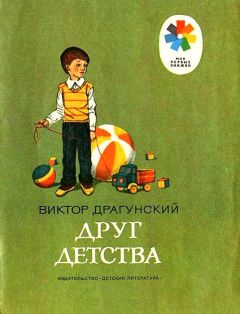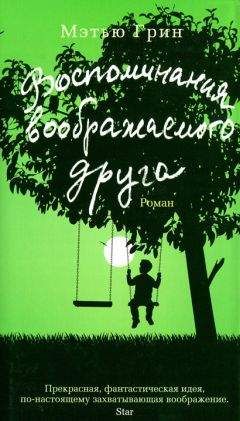Максим Кантор - Учебник рисования
Точно так, как неверные мужья крадучись отправляются на свидания с юной любовницей, Павел тайком ходил на встречи с женой. Его тайными удовольствиями стали спокойные вечера, проведенные в доме, где он раньше жил, тихие чаепития с грустной Лизой, тишина его комнаты, честный запах стираного белья и отсутствие ароматов духов.
Так же точно, как иные мужья выдумывают неубедительные предлоги, чтобы украсть от семейной жизни несколько часов для живых наслаждений, и отправляются в несуществующие командировки и на фальшивые конференции, так Павел изобретал оправдания, чтобы снова пойти в прежний дом, открыть дверь, что когда-то считал своей, получить из рук жены (той женщины, которая уже не могла, по законам жанра, быть женой) чашку чая. И когда приходила пора возвращаться обратно в ту страстную жизнь, ради которой он прежнюю семью и оставил, — Павел испытывал тоску; так тоскует неверный муж, вынужденный прощаться с любовницей и возвращаться под семейный кров. Павел медлил на пороге, — сейчас он выйдет прочь, пойдет в другой дом, там будет бурная жизнь, разговоры до полуночи, курение сигарет. Будет запах духов, что так будоражит других мужчин, и его тоже; будет улыбка Юлии, что приводит в волнение всех мужчин, и его в том числе; будет страсть, о которой всякий мужчина мечтает — а вот у него она есть. Вероятно, это и есть — любовь, чувство, из-за которого он оставил семью.
Он любовался летящей походкой Юлии Мерцаловой, слушал ее точные и резкие суждения и говорил себе, что выбрал свободу и любовь. А зачем он ходит в прежний дом? Ну как это объяснишь? Просто Лиза — хороший человек и с ней спокойно. Но подлинное волнение сердца — это когда слышишь стремительный стук каблучков Мерцаловой, видишь ее элегантный силуэт. И он говорил любовные слова своей Юлии и требовал любовных слов в ответ. И Юлия уверяла его, что принадлежит ему — и прошлым и будущим; а он как раз ей не верен — проводит вечера со своей женой! Да, с женой! Понимаешь ли ты, как мне это оскорбительно? — говорила Юлия Мерцалова.
Павел понимал и соглашался. Привязанность к жене сделалась его тайным пороком. На фоне свободной любви к красавице Мерцаловой отношения с женой выглядели пошло и мелко. Общество не принимало оправданий, оно давно сделало выбор. Наличие трех мужей, непростое прошлое, кокетство с мужчинами — общество находило такой судьбе образец стойкости и отваги. В то же время тусклая жизнь женщины, которая имеет всего одного мужа и, когда тот уходит, не заводит себе другого, — говорила о бедности натуры. Общество восхищалось моральным подвигом людей, перешагнувших условности. Но для внимания к законной жене, которая никакими общественно значимыми достоинствами не отличается, общество не находило извинений.
Знакомые говорили Павлу: а что Лиза? Все так же? — в их словах содержалась констатация печального факта: сидящий на одном месте человек счастья не заслуживает. Павел любил свою жену тайной любовью — стесняясь своего чувства, понимая его несуразность. Так люди, коим общественный статус предписывает любить чужие города и размах цивилизации, тайком любят свою отсталую Родину; признаться в этом неловко, требуется хвалить Париж и Нью-Йорк — и люди так и делают, чтобы никого не разочаровать.
До чего же несуразна моя жизнь, думал Павел. Надо найти слова и образы, чтобы объяснить противоречие, избавиться от стыда. Надо написать такие картины, чтобы любви хватило на всех: ведь если действительно любишь и хочешь защитить — в этом нет ничего плохого. Страна рушится, общество больно — значит, надо удержать то немногое, что в состоянии. Как можно равнодушно смотреть на то, что человек одинок, как можно не протянуть руки, если твоя рука нужна. Человек не имеет права отказаться даже от самой мелкой обязанности, он должен нести груз отношений всегда.
XIТак рассуждал Павел Рихтер. Дед его, Соломон Моисеевич, неожиданно испытавший прилив сил, ждал разрешения событий на иной манер. Рушится вековая тюрьма народов, восклицал Рихтер. И пусть рушится, это объективный процесс. Не случайно обратились ко мне за советом, нет, не случайно! Состоялся переход в качественно иное состояние! Вот уже и вольная Украина машет оранжевым прапором, вот и свободолюбивые горцы восстали, вот Латвия кажет русским кукиш, ура! Сейчас история сделает очередной виток, вот увидите! Однако и свободолюбивый Рихтер порой чувствовал тревогу: не слишком ли большой урон понесло тоталитарное государство. Он готов был возглавить народ — вести его через пустыню, — но уж больно безлюдной рисовалась эта пустыня, сорока лет не хватит, чтобы пересечь. Издерганная, больная психика Соломона Моисеевича реагировала на всякий поворот политики — он впадал в беспокойство, включая телевизор.
На излете существования России народ выказал признаки безумия: то ли бежать сломя голову, уподобясь правителям своим, то ли еще раз попробовать все снова построить. В то самое время, когда стране со всей очевидностью срок был уже отмерен, граждане — в очередной раз — испытали потребность в бессмысленных декларациях о справедливом устройстве общества. Румянец заиграл на щеках чахоточного: он еще встанет с одра болезни — и спляшет. А не спляшет — так убежит.
Жажда перемен обуяла общество. Каких перемен? Не довольно ли было их уже? Может быть, хватит с нас перемен, нам бы теперь немного застоя, так рассуждали граждане, успевшие обзавестись некоторой недвижимостью, — их можно было понять. Однако чувство обманутого вкладчика терзало сознание гражданина новой империи. Я им, думал вкладчик в цивилизацию, лучшее отдал — и мысли, и порывы, и мечты. А они мне — что? Ваучер? Телепрограмму Ефима Шухмана «Караоке из-под глыб»? Культурное шоу министра Ситного «Цыпочки и пиписки»? Довольно! Права есть — а свободы нету! Правды хочу! И знание того, что правды нет нигде, не помогало: правды все равно хотелось. Хочет человек любви, хотя знает, что это — психическое расстройство, и блага принести не может.
XIIСмутное это настроение — пылкое, но лишенное определенности — ярче прочих передал новоявленный поэт (в прошлом редактор «Европейского вестника») Виктор Чириков. Слоняясь по улицам столицы, Чириков сочинил новые вирши. Стихи звучали так:
Когда у них в гостях сидишь,
На рожи гладкие глядишь:
Где этот на халяву пьет,
А тот ворованное жрет,
А третий о прогрессе врет,
Четвертый мучит анекдот,
А пятый пестует народ,
Пока бюджет в карман сует,
Шестой музей распродает,
Седьмой провинцию стрижет,
Восьмой растит себе живот,
Девятый акции печет,
Десятый делит фонд сирот,
Насмотришься на них — и вот
Кусок господский в рот нейдет!
И думаешь: едрена вошь!
Пусть я не по милу хорош,
Пусть по миру пойти с сумой —
Мой жребий, ну и что ж?
Чем обручать тоску с тоской,
Плодить довольство и покой,
Бояться сделать шаг-другой
При мысли: упадешь,
Чем в будущее лезть блохой,
Юлить и лебезить строкой
И делать вид: я парень свой,
Такой же паразит, —
Не лучше ль наплевать на быт,
На все махнуть рукой?
Когда словами ты набит,
Когда внутри все — динамит,
И превращенье совершит
В пироксилин твой дух,
Чем ждать, пока тебя найдут,
Остерегаться там и тут,
Уж лучше прыгнуть на редут —
И разнести все в пух!
Строки эти Чириков огласил на закрытом собрании Партии прорыва, и вызвал бурю. Молодые предприниматели (из тех, что предполагали при новом разделе собственности получить больше, нежели прежде) подходили к поэту, жали руку. Пожилой диссидент Маркин вскочил, грянул кулаком по столу. Именно в пух! Вот как их надо разнести, казнокрадов! В пух и, так сказать, в прах! Чириков призвал единомышленников хранить произведение в секрете, но стихи стремительно разошлись по Москве. Можно ли звать к бунту и держать это в тайне? Нелогично. Чириков усмотрел в случившемся перст судьбы: что ж, жребий поэта — бросать вызов обществу. При желании в стихах можно было усмотреть призыв к террору, так и сделали компетентные лица. По империи бухали взрывы — террористы ли разошлись, органы ли безопасности оттачивали мастерство, кто знает? Так или иначе, на Чирикова взглянули косо. Пироксилин? Конечно, это образ, стихотворный прием — и все же неосмотрительно. Самое время замолчать, побаловался — и будет. Но появилось стихотворение «Гамлет», Чирикову молвой приписанное. Что, спрашивали, и «Гамлет» — ваш? Мой, отвечал Чириков безбоязненно. Бесшабашность явилась в его поведении: играть, так на все. Вот это стихотворение.
ГамлетНе дорожу я головой,
Но не досталась бы вороне,
И череп мой уже пустой
С приметной костью лобовой
Кто взвесит на своей ладони?
Повсюду торжествует принцип:
Не стоит дожидаться принца,
Когда приказчик у ворот.
В мои отверстые глазницы,
В оскаленный беззубый рот
Взглянув, усмешкой покривится
Случайный тот и отойдет.
За правду пасть — кому охота?
Дороже вольность и покой.
Прогресс ли на дворе, застой —
Знать, крепок социальный строй,
Когда державная блевота
Приватной смочена слюной.
Коль ухо режет даже нота,
Оркестр уже хорош любой.
И прочь пойдет прохожий мой,
Раззявит рот его зевота:
Никто не тратит капли пота
Там, где шампанское — рекой.
Не хвастают прямой спиной
Там, где любая вещь — дугой,
Запас не ценят золотой
Там, где в почете позолота.
К чему напрасная забота?
В том нет ни славы, ни почета —
Давно пора махнуть рукой.
Но нет истории другой,
И властвует закон простой,
И ценится лишь та работа,
В какой рискуешь головой,
Считаешь до предела счета,
Идешь за дальнею звездой.
Ты прав последней правотой,
На царство венчанный герой:
Тебе лежать в земле сырой
В короне птичьего помета.
Этим творчество Чирикова не ограничилось. По Москве ходило хулиганское стихотворение под названием «Содом»; авторство приписывали все тому же Чирикову. Скорее всего, то был казус, схожий с историей актера театра «Глобус» — все сколько-нибудь заметное приписывали ему. Чириков охотно брал ответственность на себя. Как, удивлялись люди, и это вы написали? Экий вы острый. А — не боитесь? Чириков отвечал: не боюсь.